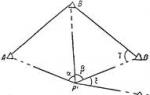Анализ стихотворения Северянина «Классические розы. А. Вертинский, И. Северянин - Классические розы (с нотами) Страной мне брошенные в гроб
КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ
Музыка Александра Вертинского
Слова Игоря Северянина
В те дни, когда роились грезы
Моей прекрасной, голубой страны.
Прошли лета и всюду льются слезы,
Как хороши, как свежи были розы
Воспоминаний о минувшем дне.
Но дни идут, уже стихают грозы,
Вернуться в дом Россия ищет троп.
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
Из репертуара Александра Вертинского. Запись на пластинку – фирма «Парлофон», Германия, 1930-1931 гг., 79140.
Очи черные: Старинный русский романс. – М.: Изд-во Эксмо, 2004.
С сайта "Печальныя пѣ
сенки
А.Н. Вертинскаго"
Стихотворение написано в 1925 году в Эстонии, навеяно стихотворением Ивана Мятлева "Розы" (Как хороши, как свежи были розы..., <1834>, на него есть мелодекламация Б. Садовской, 1910) и стихотворением в прозе Ивана Тургенева "Как хороши, как свежи были розы..." (1879, есть мелодекламации Л. Лисовского, 1890, А. Таскина, 1898, А. Аренского, 1904). Романс Вертинского создан в 1930 году, его текст немного отличается от авторского текста Северянина.
Жанна Бичевская исполняет этот романс на музыку Геннадия Пономарева (приблизительно, 1990-е гг.), с авторским текстом Северянина, изменив только одно слово в ст. 7: поет "Как хороши, как свежи были розы" вместо "Как хороши, как свежи ныне розы" . См. Жанна Бичевская, альбом «Любо, братцы, любо…», Zeko Records, 1996.
Фраза "Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошенные в гроб!" высечена на могильной плите Северянина. Умер он в конце 1941 года в Таллине от голода.
Классические розы
Игорь Северянин
Как хороши, как вежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
Мятлев, 1843
В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране.
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
Но дни идут - уже стихают грозы.
(2)
Игорь Северянин использовал строки Мятлева для написания пронзительного по содержанию стихотворения о нелёгкой судьбе России после октябрьских событий 1917 года:
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб.
Именно эти две строчки выбиты на надгробии Игоря Северянина в Таллине, где он похоронен.
Для чего же использует поэт приём аллюзии? Какова его роль?
Первое четверостишие «Классических роз» — точная цитата начала стихотворения Мятлева, аллюзия во второй строфе стихотворения Северянина уже из Тургенева:
В те времена, когда роились грёзы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
«Те времена» здесь – дореволюционная Россия, образ которой с такой любовью дан Тургеневым.
Третья строфа словом «воспоминание» также отсылает нас к тургеневскому стихотворению:
Прошли лета, и всюду льются слёзы …
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране …
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
Для Тургенева «минувший день» — это оставленная Родина и связанные с нею воспоминания о юности. Для Северянина — это дореволюционная Россия) которой больше нет.
В третьей строфе в цитату вносятся изменения, что отсылает нас уже к приёму К.Р.: слово «были» меняется на слово «ныне» (у К.Р. «теперь») что чётко соотносится со временем.
Четвёртая строфа сначала читается как аллюзия на строки К.Р. «И после сумрачной зимы / опять … / Вернутся радости и грёзы, / Как хороши тогда, Как свежи будут розы!»:
Но дни идут — уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп.
Как хороши, как свежи будут розы.
В самое сердце бьёт последняя строчка:
… Моей страной мне брошенные в гроб.
И снова розы и смерть сплетаются в единое, как у Мятлева и Тургенева.
1825 год. Закончилась Гражданская война, прошлое разрушено. Судьба забросила Северянина в Эстонию. Остались лишь воспоминания. Поэт верит, что Родина преодолеет все невзгоды, и потом, когда-нибудь) наскоро, вспомнит о нём — принесёт цветы. Но можно прочитать эти строки и по-другому: меня вспомнят только после смерти.
1925 год — время НЭПа, время, когда в Россию возвращались (на свою погибель) многие: «Вернуться в дом Россия ищет троп». Но он не вернётся.
Сколько нам открыла одна строка одного стихотворения! Как расширяет смысловое и образное пространство произведения приём аллюзивных включений! Как этот приём раскрывает мысль о преемственности в русской литературе!
Встречаются в отечественной словесности лица оригинальные, от которых, однако, остается вроде бы совсем немного - домашнее имя, две-три строки. В лучшем случае - какой-нибудь куплет без привязки к автору. Такова судьба Ивана Мятлева. Или Ишки Мятлева, как звали его современники.
- Не ву пле па -
Не лизе па.
Из стихов Ивана Мятлева
Самые знаменитые его строки звучат у Тургенева, в стихотворении в прозе из цикла «Senilia»: «Как хороши, как свежи были розы…» .
Тургенев то ли действительно забыл (по сенильности), то ли сделал вид, что забыл (для настроения), что так начинается элегия Мятлева «Розы» (1834). Промчав сквозь годы, эти свежие розы появились у Игоря Северянина, уже в горько-трагическом контексте:
…Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
(«Классические розы», 1925).
Они же выбиты эпитафией на могиле Северянина в Таллинне.
В наше время неблагодарные потомки, в пику школьному Тургеневу, ёрничали: «Как хороши, как свежи были рожи!» Что, впрочем, потешило бы душу ёрника Мятлева.
Смеяться над всем
Друг Сверчка, Асмодея и Светланы, богатый барин и веселый версификатор, человек светский, аристократ, любимец литературных салонов и лиц, облеченных властью, он прожил жизнь не слишком долгую (1796-1844), но насыщенную событиями, в том числе и историческими. И - вполне благополучную жизнь. Корнет Белорусского гусарского полка, он участвовал в войне с Наполеоном. Демобилизовался по болезни. На гражданской службе дослужился до действительного статского советника и камергера и вышел в 1836 году в отставку. Располагая средствами, отправился путешествовать по Европе. Вернулся в Петербург, написал по следам своих путешествий про госпожу Курдюкову, издал последний том поэмы - и умер.
Как говорилось в одном некрологе, «он ставил честолюбие гораздо ниже каламбура, почитав первую потехою - жить честно, благородно и первым делом смеяться безвредно над всем, начиная с самого себя, - кончил веселую книгу и с последнею шуткой бросил перо и жизнь вместе, как вещи отныне впредь ненужные…»
Бесконечное, возбужденно-нервное его остроумие - есть такой тип всегда острящих, каламбурящих и рифмующих людей! - выглядело бы болезненным, не будь он столь добродушен и (внешне, по крайней мере) простодушен. Хотя порой мятлевские штучки могли показаться чрезмерно экстравагантными. Так, на балу, где присутствовал сам Николай Первый, веселый поэт порезал меленько-меленько букет своей соседки, маркизы де Траверсе, заправил цветами салат и отправил блюдо адъютанту наследника, в которого маркиза была влюблена. Или еще: в одном доме сын хозяина полюбил играть с щегольской шляпой Мятлева. Это поэту надоело, и, не желая, чтобы его замечательную шляпу спутали с чьей-нибудь другой, он написал внутри нее стишок: «Я Мятлева Ивана, а не твоя, болвана. Свою ты прежде поищи! Твои, я чай, пожиже щи» . Грубовато, надо сказать…
Душа литературных салонов, великолепный чтец и импровизатор, Мятлев, особенно после бокала – другого, нанизывал рифмы виртуозно. «…он просто говорил стихи, и всегда говорил наизусть, беззаботно рассказывал в стихах, беседовал стихами; … Он говорил этими стихами по целым часам», — свидетельствует современник.
Провинциалы, прибывшие в Петер¬бург, непременно хотели попасть «на Мятлева». Особенно он часто выступал там, где все друг друга знают и друг над другом мило так подшучивают - оттого почти все его стихи домашние . Однако социальный статус участников этих собраний весьма высок - это был междусобойчик людей знатных. Что придавало - в исторической перспективе - альбомным, домашним сочинениям особый шарм и размах.
Русская критика, в отличие от посетителей салонов, Мятлева не особенно жаловала. Белинского, только начавшего входить в силу, этот штукарь просто-напросто раздражал: строгий критик чуял в стихах Мятлева безответственное веселье аристократа. Снисходительной похвалы Белинского удостоился лишь «Разговор барина с Афонькой», тоже, стоит отметить, довольно легкомысленный.
Какое- то время (незадолго до смерти) Мятлев издавал «Листок для светских людей». Там была, например, такая картинка. Молодой офицер спрашивает у дамы: «В каком ухе звенит?» - «В левом» , -отвечает дама. «Откуда вы знаете?» - изумляется офицер… Люди серьезные возмущались подобной пошлостью. (А мне, в силу простых вкусов, нравится.)
Типы эпохи
Дам, вдохновляющих его на стихи, Мятлев ласково называл своей «парнасской конюшней» . Среди «лошадок» были Софья Карамзина, Наталья Пушкина и роковая женщина российского Парнаса - Александра Смирнова-Россет. С последней Мятлева связывали особо теплые, но исключительно дружеские отношения.
Женщина она была своеобразная. Князь Вяземский, большой похабник и цинический острослов с язвительно-едким умом, восхищался: «Обыкновенно женщины худо понимают плоскости и пошлости; она понимала их и радовалась им, разумеется, когда они были не плоско-плоски и не пошло-пошлы». Моралист Иван Аксаков, напротив, сетовал: «…я до сих пор не видел в ней теплоты эстетического ощущения, никакого сердечного движения… Среди «Шинели», в самых чудесных местах она вдруг по поводу какого-нибудь квартального вспомнит какие-нибудь глупые стихи Мятлева и скажет или пропоет: «Напился, как каналья, пьян» … - и т.п., всегда с особенным удовольствием». (Кстати, из этих двух характеристик одной и той же особы можно вывести два основных русла, по которым шло наше эстетическое и идеологическое развитие.)
Смирнова-Россет представляла собой женский вариант того характернейшего типа эпохи, который в чистом виде воплощал сам Мятлев, как, впрочем, и его знаменитые сверстники - князь Вяземский, Пушкин, Грибоедов и т.д. Тип этот вскоре исчезнет, и уже младший Вяземский напишет, не без дидактизма и морализма: «Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула» видели во всей этой эстетической и поведенческой лихости «последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни».
Пушкин посвятил Мятлеву известное стихотворение: «Сват Иван, как пить мы станем…» (1833). Но особенно был близок с Мятлевым, возился с ним и с его стихами князь Вяземский, удовлетворяя таким образом свою страсть (усиленную ирландской кровью) к дурацким шуткам. Троице этой – Пушкину, Вяземскому и Мятлеву – принадлежит знаменитое коллективное «Надо помянуть, непременно надо» (1833) - сочиненье насколько абсурдно-безумное в своей дурной бесконечности, настолько и смешное. Со слегка меняющимся рефреном: «Надо помянуть, помянуть непременно надо…»
Вяземский, посылая этот дикий стишок Жуковскому, писал, что Мятлев «в этом случае был notre chef d’ecole» (переводим: «нашим наставником»).
Александра Смирнова-Россет, в свою очередь, вспоминает, как Гоголь «научил Пушкина и Мятлева вычитывать в «Инвалиде», когда они писали памятки. У них уже была довольно длинная рацея:
Михаил Михайловича Сперанского
И почт-директора Еромоланского,
Апраксина Степана,
Большого болвана,
и князя Вяземского Петра,
Почти пьяного с утра.
Они давно искали рифм для Юсупова. Мятлев вбежал рано утром с восторгом: «Нашел, нашел: Князя Бориса Юсупова / И полковника Арапупова » (потом на рифмовке имен собственных поедет крыша у Дмитрия Минаева).
Стихи на случай
Любимый жанр Мятлева - стихи на случай. Он мог запросто посвятить генералу Ермолову абсолютно пустую фантазию «на день наступающего тысяча восьмисот четвертого года» , выдержанную в игривом и бессмысленном духе:
Коль пройдет мадам Эстер
Ле канкан де ля Шольер -
Весь театр набит народом…
Поздравляю с Новым годом!
(«Новый 1944. Фантазия»)
Несоответствие поэтического пустяка статусу адресата - его высокопревосходительству - Мятлева ничуть не смущало. Впрочем, все это вполне соответствовало нормам и духу времени.
Поэт пользовался благосклонностью царей. Однажды, прочитав стихи Якова Грота «Берегитесь; край болотный, град отравой переполнен…» , наследник, будущий царь Александр Второй, попросил Мятлева защитить Петербург. В результате на свет явилось стихотворение: «Ужель ты веришь наговорам, сплетенным финнами на нас?» (1841). Как и стихотворение Грота, мятлевский ответ был посвящен той самой маркизе де Траверсе, с чьим букетом поэт так жестоко обошелся…
Так же сильно, как дамы, цари и князь Вяземский, полюбил Мятлева Лермонтов: «Вот дама Курдюкова, / Ее рассказ так мил, / Я от слова до слов / Его бы затвердил…» На что Мятлев отвечал, может быть, не слишком изящным, но, несомненно, искренним стихом «Мадам Курдюкова Лермонтову»: «Мосье Лермонтов, вы пеночка, / Птичка певчая, времан! Ту во вер сон си шарман…» (перевод: «Поистине! Все ваши стихи так прекрасны…»)
Лермонтов фамильярничал: «Люблю я парадоксы ваши / И ха-ха-ха, и хи-хи-хи, / С[мирновой] штучку, фарсу С[аши] / И Ишки М[ятлева] стихи…» Так ведь подумать: ну какой Мятлев для него «Ишка» при разнице в возрасте чуть ли не в 20 лет - Иван Петрович!.. Но, видимо, было в Мятлеве что-то вечно-подростковое.
Travel blog госпожи Курдюковой
Кажется, поэтическое честолюбие Мятлева (если оно вообще у него было) вполне удовлетворялось вот такими милыми пустяками и любовью окружающих. Первые два сборника его стихов вышли без имени автора, сопровождаемые симпатично-простодушным уведомлением: «Уговорили выпустить» (1834 и 1835), что соответствовало действительности.
Однако его ждало и чуть ли не всенародное ха-ха-ха и хи-хи-хи после выхода в свет «Сенсаций и замечаний госпожи Курдюковой за границею, дан л’этранже» с карикатурами Василия Тимма (1840-1844). Местом издания в шутку значился Тамбов, где жила госпожа Курдюкова.
Здесь Мятлев дал полную волю своей страсти к макароническому стиху, приводившему в бешенство пуристов от языка. «Сенсациям и замечаниям…» предшествовал ёрнический эпиграф: «Де бон тамбур де баск / Дерьер ле монтанье» с пояснением: «Русская народная пословица» (перевод: «Славны бубны за горами»). Но ведь и жил поэт в эпоху лингвистической диффузии, во времена «двуязычья культуры» (Юрий Лотман).
Беско¬нечно долго сопрягая русские слова с иноязычными, он создал презабавную, хотя и несколько, быть может, затянутую (страниц эдак на 400) шутку. В разудалом плясовом ритме:
Но по мне, весьма недурно
Этот бронзовый Сатурно
Тут представлен; он, злодей,
Собственных своих детей
Ест, как будто бы жаркое,
А Сатурно что такое -
Время просто, се ле тан,
Ки деворе сез анфан…
(перевод: «Это время, которое пожи¬рает своих детей»)
Иногда вдруг поэт меняет тон и серьезно и строго говорит о торжестве «русской веры православной», об увиденной в Ватикане картине, изображающей Спасителя на Фаворе. При всем своем легкомыслии Мятлев был глубоко верующим человеком.
«Сенсации и замечания госпожи Курдюковой…» критика восприняла без юмора. Как эмблему русской провинции, над которой смеются столицы. Но решили, что «лицо Курдюковой - лицо замечательное: оно принадлежит к клоунам или шутам Шекспира, к Иванушкам, Емелюшкам-дурачкам наших народных сказок». Удивились склонности к неприли¬чиям, которая «доходит в госпоже Курдюковой до какой-то непобе¬димой страсти». Но ничего удивительного в этом не было: ведь госпожу Курдюкову Мятлев списывал преимущест¬венно с себя и отчасти - со своей подруги Смирновой-Россет. А еще критики отмечали, что Курдюкова «излишне умна» и образована – и, стало быть, это не тамбовская помещика, а сам Мятлев. Но сдается, что сочинителя уличали не столько ум и образованность Курдюковой, сколько ее постоянное и заинтересованное внимание к женским прелестям. (Если она не лесбиянка, конечно.)
Иллюстрируя поэму, Василий Тимм изображал эту туристку похожей на Мятлева. Или так: перед зеркалом Мятлев, а в зеркале госпожа Курдюкова.
Меж тем
Да, конечно, шутки, пустяки, причуды барина, искусство для искусства… Меж тем бывал он истинно поэтичен в обычной речи: «Завернулась в кусочек неба, да и смотрит, как ангел…» - в стихах это вышло несколько хуже (см.: «Что я видел вчера», 1840).
Фонарики-сударики,
Скажите-ка вы мне,
Что видели, что слышали
В ночной вы тишине…
Фонарики-сударики
Горят себе, горят,
А видели ль, не видели ль -
Того не говорят…
«Под именем фонариков сочинитель разумел чиновников, состоящих в государственной службе», - значилось на одной из копий стихотворения. Ну да, чиновники да сановники, которым дела нет до «горестей людских» . Как пишет советский исследователь, «Фонарики» - «глубоко сатирическое, хотя художественно завуалированное изображение … бюрократической системы николаевской эпохи». Так или иначе, но «Фонарики» попадали в сборники подпольной поэзии. И даже, кажется, понравились Герцену.
А еще Мятлев - автор лапидарно-разговорного «Нового года» (1844), который держится преимущественно на ритме: «Весь народ / Говорит, Новый год, / Говорит, / Что принес, / Говорит, / Ничего-с, / Говорит, / Кому крест, / Говорит, / Кому пест, / Говорит, / Кому чин, / Говорит, / Кому блин, / Говорит…»
Интригующий литературный сюжет связан с мятлевской «Фантастической высказкой» (1833), она же - «Таракан»:
Таракан
Как в стакан
Попадет -
Пропадет,
На стекло
Тяжело
Не всползет.
Так и я:
Жизнь моя
Отцвела,
Отбыла…
С одной стороны, «Таракан» пародирует «Вечернюю зарю» Полежаева. А с другой, - становится кастальским ключом для несравненного капитана Лебядкина: «Жил на свете таракан, / Таракан от детства, / И потом попал в стакан, / Полный мухоедства…» Потом таракан естественным образом переползет к Николаю Олейникову, потом объявится где-то в окрестностях «Жизни насекомых» Виктора Пелевина.
И Козьма Прутков, и Дмитрий Александрович Пригов, и Тимур Кибиров, и другие сочинители ловили (и поймали) лучи, летящие от стихов этого беспечного шута русской литературы. И его немыслимые ха-ха-ха и хи-хи-хи …
«Не нравится - не читайте» , - так переводится эпиграф.