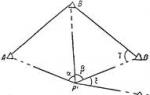Черты поэтики. Черты поэтики пьес Л.Н. Андреева. Поэтика как научная дисциплина
Сочинение
Поэзия Бродского “На смерть Жукова” представляет собой перифразу державинского стиха “Снегирь”, написанного на смерть другого великого русского полководца - Суворова. В “Новых стансах к Августе” очевидной является тематическая параллель со стансами к Августе Байрона. «Песнь невинности, она же - опыт» перекликается с двумя знаменитыми поэтическими сборниками Блейка “Песни невиновности” и “Песни опыта”, а поэзия Бродского на смерть Т. С. Элиота построена в стиле “Памяти лица” Одена. Список подобных взаимодействий с чужим текстом можно продолжать. Главное, что поэт, делает замечание американский профессор-русист Михаил Крепе, “пользуясь чужими красками, тем не менее, всегда остается самим собой, т.е. в поэзии “по мотивам” герой тот же самый, что и в поэзии своей палитры. Естественно и то, что Бродский избирает произведения таких поэтов, которые близки ему то ли по духу, то ли по настроениям, то ли по составу поэтического таланта”.
Специфической чертой поэтики Бродского является также самоцитирование. Так, в творчестве 90-х годов встречается немало цитат из собственной поэзии раннего периода, прежде всего 70-х годов. Повторяются, например, рифмы (”вера” - “стратосфера”) и образы (”папоротник пагод”, “мрамор для бедных”, “нью-йорки и кремли из бутылок”). Исследовав подобные самоцитаты Бродского, А. Расторгуев сравнивает их с самоцитатами Мандельштама: “У Мандельштама повторы, варианты одного и того же самого приводят то к похожим, то к непохожим результатам точно так, как в разных вариантах мифа герой действует по-разному, вплоть до того, что разным будет его конец или посмертная судьба”.
У Бродского же “повторные хода языка создают другое впечатление: герой его стиля вдруг в какой-то момент осуществляет такой же поступок, который осуществлял давно или недавно, но при других обстоятельствах. И пейзаж был другим, и время дня, тем не менее, есть какое-то место, куда следует лишь посмотреть - и вдруг становится понятным, что все это уже было… Совпадение с собой… суживает круг бытия, возвращает любое образное впечатление назад, к себе самому…”. В этом - разница индивидуальных творческих манер модерниста Мандельштама и постмодерниста Бродского, как и разница “больших стилей”, которые они соответственно репрезентуют - модернизм и постмодернизм. Здравый смысл в лирике Бродского часто переплетается с иронией и самоиронией. Это позволяет, с одной стороны, снимать интеллектуальное и эмоциональное напряжение, а с другой - вести диалог с культурой на разных уровнях. Встречается в поэзии Бродского и постмодернистский пастиш. Яркий пример - шестой сонет из цикла “Двадцать сонетов к Марии Стюарт”, в котором для выражения своего жесткого и безжалостного взгляда на человека, мир, любовь резко трансформируется текст пушкинского шедевра “Я вас любил…”:
* Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги,
Все разлетелось к черту, на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее, виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! все не по-людски!
* Я Вас любил так сильно, безнадежно,
как дай Вам бог другими, но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит - по Пармениду - дважды
сей жар в груди, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться - “бюст” зачеркиваю - уст!
Как комментирует эту перелицовку пушкинской поэзии известный русский исследователь А. Жолковский, “Несчастливая любовь грубеет до физической боли и преувеличивается до попытки самоубийства, отказ от которого иронически мотивируется сугубо технической сложностью (оружие, выбор виска) и соображениями престижа (”все не по-человечески”). За пушкинским “другим” просматривается бесконечное множество любовников, а намек на неповторимость любви поэта развернут в шутливый философский трактат со ссылками на первоисточник. Бог из полустертого компонента идиомы (”дай вам Бог”) возвращен на свой пост творца всего сущего, но с указанием, что создавать разрешается лишь (не) по Пармениду.
Стыдливая нежность оборачивается физиологией и пломбами, которые плавятся от “жары”, раздутой из пушкинского “угасла не совсем”. А романтическая возгонка чувства приходит к максимуму (посягательство на грудь любимой переадресуется устам) и далее к абсурду (объектом страсти оказывается не женщина, а скульптура, а субъектом - даже не мужчина с расплавленными пломбами во рту, а исключительно литературное - такое, что пишет и зачеркивает - “я”). Пушкинский словарь осовременивается и вульгаризируется. Вместо “быть может” Бродский ставит “возможно”, вместо “души” - “мозги”, вместо “так искренне” - простоватое «так сильно». Появляются разговорные “черт”, “все разлетелось на куски”, “не по-людски”, канцелярское “и далее” и откровенно простоязычное “ударит”. “Черт” и “все” даже повторяются, чем подчеркнуто упрощенно имитируются изысканные пушкинские параллелизмы”.
От постмодернистского сознания у Бродского присутствуют также ирония и самоирония, смешивание высокого и низкого, трагического и фарсового, насыщенность поэтических текстов образами предыдущих историко-литературных эпох и культурными реалиями. Все эти и другие признаки постмодернистской лирики появляются, например, в его произведении “Речь в пролитом молоке”:
* Я сижу на стуле в большой квартире.
* Ниагара клокочет в пустом сортире.
* Я себя ощущаю мишенью в тире,
* Вздрагиваю при малейшем стуке.
* Я закрыл парадное на засов, но
* Ночь в меня целит рогами Овна,
* Словно Амур из лука, словно
* Сталин в XVII съезд из «тулки».
Однако поэзия Бродского - совсем не смесь нетрадиционалистских и постмодернистских художественных приемов. Это, в самом деле высокая поэзия, наполненная и философской напряженностью, и тонким лиризмом, и высокой гражданской позицией, и моральными вопросами, и раздумьями о месте поэта в современном мире, и утверждением высокой миссии поэтического слова. Когда из США пришла весть о смерти Иосифа Бродского, русский поэт-постмодернист Д. Пригов заметил: “Бродский был великим поэтом в эпоху, когда великие поэты не предусмотрены”. И это было, в самом деле так. Ведь оставаться великим поэтом в эпоху постмодернизма, когда, по словам другого русского постмодерниста В. Курицына, «для большой поэзии … мало осталось понятий и слов”, когда исчерпались сами представления о этой большой поэзии, - судьба настолько же счастливая, насколько и тяжелая».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 29»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Спец. вопрос на тему
«Общая характеристика французской литературы конца XIX – начала XX в. Символизм. Оригинальные черты поэтики А. Рембо»
Составлен учителем
русского языка и литературы
МАОУ «СОШ №29» городского
округа г.Стерлитамак РБ
Алексеенко М.В.
Стерлитамак
Символизм (от франц.
simbolism
, от греч.
simbolon
- знак, символ) - художественное направление, появившееся во Франции в конце 60 - начале 70-х гг. 19 в. (первоначально в литературе, а затем и в других видах искусства - изобразительном, музыкальном, театральном) и вскоре включившее в себя иные явления культуры - философию, религию, мифологию. Излюбленными темами, к которым обращались символисты, являлись смерть, любовь, страдание, ожидание каких-либо событий. Среди сюжетов преобладали сцены евангельской истории, полумифические-полуисторические события средневековья, античная мифология.
Основы эстетики символизма заложили А. Рембо, С. Малларме, П. Верлен, К. Гамсун, М. Метерлинк, Э. Верхарн, О. Уайльд, Г. Ибсен, Р. Рильке и др.
Символизм получил широкое распространение во многих странах Западной Европы (Бельгии, Германии, Норвегии).
Эcтeтикa cимвoлизмa oбpaщaeтcя к cфepe дyxa, «внyтpeннeгo видeния». В основе символистской концепции лежит постулат о наличии за миром видимых вещей истинного, реального мира, который наш мир явлений лишь смутно отражает. Иcкyccтвo paccмaтpивaeтcя кaк cpeдcтвo дyxoвнoгo пoзнaния и пpeoбpaжeния миpa. Момент прозрения, возникающий во время творческого акта - вот то единственное, что может приподнять завесу над иллюзорным миром обыденных вещей.
C
тихотворения П.Верлена
Поэтическое искусство
(1874) и сборник А.Рембо
Озарения
(1872– 1873, особенно сонет
Гласные
, 1872) провозгласили своим манифестом
. Оба поэта испытали влияние Бодлера, но воплотилось оно по-разному. Верлен, поэт-импрессионист по преимуществу, стремился к «искусному опрощению» (Г.К.Косиков) поэтического языка. Между «душой» и «природой» в его пейзажной лирике (сборник
Романсы без слов
, 1874) устанавливается отношения не параллелизма, но тождества. В свои стихи Верлен ввел жаргон, просторечия, провинциализмы, фольклорные архаизмы и даже языковые неправильности. Именно он предварил символистский верлибр, который открыл А.Рембо. Он призывал дать волю ничем не сдерживаемой игре воображения, старался достичь состояния «ясновидения» путем «расстройства всех своих чувств». Именно он обосновал возможность «темной», суггестивной поэзии, предвосхищая творчество С.Малларме.
История символизма как оформленного поэтического направления начинается в 1880, когда С.Малларме открыл у себя дома литературный салон, где собирались молодые поэты – Р.Гиль (1862–1925), Г.Кан (1859–1936), А.Ф.Ж.де Ренье (1864–1936), Франсис Вьеле-Гриффен (1864–1937) и др. В 1886 программной для символистов акцией стала публикация восьми Сонетов к Вагнеру (Верлен, Малларме, Гиль, С.Ф.Мерриль, Ш.Морис, Ш.Винье, Т.де Визева, Э.Дюжарден). В статье Литературный манифест. Символизм (1886), программном документе движения, Ж.Мореас (1856–1910) пишет, что символистская поэзия пытается «одеть Идею в осязаемую формулу». В это же время выходят первые поэтические сборники, ориентированные на символистскую поэтику: Кантилены (1886) Ж.Мореаса; Успокоение и Ландшафты (1886, 1887) А.де Ренье и др. В кон. 1880-х происходит подъем символизма (Утехи (1889) Ф.Вьеле-Гриффена; Стихотворения в старинном и рыцарском духе (1890) А.де Ренье). После 1891 символизм входит в моду, это размывает границы сообщества. Эзотеризм и мистицизм некоторых поэтов (Великие посвященные (1889) Э.Шюре) вызывают реакцию со стороны других. (Французские баллады (1896) П.Фора, 1872–1960; Ясность жизни (1897) Вьелле-Гриффена; От утреннего Благовеста до вечернего (1898) Ф.Жамма, 1868–1938), стремящихся к непосредственности и искренности в поэзии. В стилизациях П.Луи дает знать о себе эстетизм (Астарта , 1893; Песни Билитис , 1894); Р.де Гурмон (1858–1915) играет индивидуалиста и имморалиста (Иероглифы , 1894; Дурные молитвы , 1900). На рубеже 19–20 вв. символистское движение распадается на отдельные школы-однодневки («натюризм», «синтетизм», «пароксизм», «эзотеризм», «гуманизм» и т.п.). Отдельным явлением в драматургии кон. 19 в. стала романтическая пьеса Э.Ростана (1868–1918) Сирано де Бержерак (1897).
Символизм, как мировоззрение проявивший себя сначала в лирике, быстро проник в драматургию. Здесь он, как и в литературе кон. 19 в. в целом, противостоял натурализму и позитивистскому мировидению. Наиболее востребован постановщиками был бельгийский драматург , его пьесы преобразили театральный репертуар 1890-х (Слепые , 1890; Пеллеас и Мелисанда , 1893; Там, внутри , 1895). Традиции символизма отчасти были продолжены в журнале «Ля Фаланж» (1906–1914) и «Вер э проз» (1905–1914) и во многом определил прозаические эксперименты нач. 20 в., повлиял на формальные поиски поэтов модернистских направлений. Очевидно влияние их на творчество П.Валери и П.Клоделя.
Становление символизма во Франции – стране, в которой зародилось и расцвело символистское движение, – связано с именами крупнейших французских поэтов: , С.Малларме, П.Верлена, А.Рембо. Предтеча символизма во Франции – Ш.Бодлер, выпустивший в 1857 книгу Цветы зла . В поисках путей к «несказанному» многими символистами была подхвачена мысль Бодлера о «соответствиях» между цветами, запахами и звуками. Близость различных переживаний должна, по мнению символистов, выразиться в символе. Девизом символистских исканий стал сонет Бодлера Соответствия со знаменитой фразой: Перекликаются звук, запах, форма, цвет . Теория Бодлера была позже проиллюстрирована сонетом А.Рембо Гласные :
« А » черный, белый « Е » , « И » красный, « У » зеленый,
« О » голубой – цвета причудливой загадки…
В поэзии гениального юноши А.Рембо, впервые употребившего верлибр (свободный стих), воплощалась взятая символистами на вооружение идея отказа от «красноречия», нахождения точки скрещения между поэзией и прозой. Вторгаясь в любые, самые непоэтические сферы жизни, Рембо достигал эффекта «естественной сверхъестественности» в изображении реальности.
Вопрос о субъекте поэтического дискурса, т. е. того „я“, которое мы встречаем в ясновидческой поэзии Рембо, оказывается не таким простым. Поэтический субъект - „переживающая и созерцающая экзистенция“ - является результатом разрушения эго поэта, его интеллектуальной и эмоциональной конституции. В идеале мы должны слышать голос „мировой души“, а не индивида („поэт в ответе за все человечество, даже за животных“ 7 ). Потому поэтический субъект м ожет носить любые маски, ассоциироваться с любой эпохой, любым народом. Для него нет ограничений ни во времени, ни в простран стве. Если в начале главы „Дурная кровь“ („Сезон в аду“), когда Рембо говорит о своих галльских предках, мы можем предполагать автобиографическую основу, то уже в следующих пассажах это невозможно:
Должно быть, простым мужиком добрался я до Святой земли; из головы нейдут дороги средь швабских долин, виды Византии... - Я, прокаженный, сижу на груде черепков, в зарослях крапивы... - А столетия спустя, солдат-наемник, я, должно быть, ночевал под небом Германии.
Да, вот еще что: я отплясываю на шабаше посреди багровой поляны, вместе со старухами и детьми 8 .
„Субъект без границ“, возникающий в результате трансформации индивида в поэта-ясновидца, делает невозможным трактовку ясновидческой поэзии как исповедальной лирики. Ход ясновидческого эксперимента Рембо отражает движение к деперсонализации поэтического дикта. Уже при обсуждении „Пьяного корабля“ Рембо резко возражал против традиционной персонификации, предложенной Теодором де Банвилем („я - пьяный корабль, который...“). Посылая „Украденное сердце“ Изамбару, Рембо помечает в письме: „Этим стихотворением я не хочу ничего сказать“. В „Озарениях“ за поэтическим дискурсом невозможно разглядеть говорящего. Даже чувства теряют здесь свои привычные личностные очертания. В таких поэмах, как „Благочестие“ или „Смятение“, мы, вопреки заглавию, не найдем даже фиксации определенного душевного состояния. Ни страх, ни смятение, ни восторг больше не имеют знакомых контуров. Перед нами интенсивность переживания, эмоциональное поле, источник которого остается неизвестным - внеличностным. Квинтэссенция такого деперсонализированного вещания духовидца - короткое стихотворение в прозе „Отъезд“, целиком построенное на безличных конструкциях:
Довольно видено. Виденья являлись во всех обличьях.
Довольно слышано. Гул городов по вечерам, под солнцем, - вечно.
Довольно познано. Все остановки жизни. О, зрелища и звуки!
Теперь отъезд к иным шумам и ощущеньям!
По мере того как в Рембо нарастает разочарование ясновидческим экспериментом, меняется и поэтический дискурс. Постепенно в последних стихотворениях Рембо снова все ощутимее звучит исповедальный тон - тоска, ужас, потерянность, ожесточенность. „Тем хуже для куска дерева, если он поймет, что он скрипка“. „Стыд“, „Как волк хрипит под кустом“, „Сезон в аду“, - это уже не голос „мировой души“, не „фиксация головокружений“, но режущий ухо надтреснутый, страдальческий голос сломанного инструмента, бывшего некогда „скрипкой“. Пожалуй, самым страшным стихотворением этого времени стал „Стыд“ - свидетельство того, до какой степени Рембо был несчастен:
Этого мозга пока
Скальпелем не искромсали,
Не ковырялась рука
В белом, дымящемся сале...
Можно предположить, что такое развитие поэтического субъекта, которое предлагалось в программе ясновидения, могло вызвать серьезный кризис эго у Рембо и потребность „возвращения к себе“, самоанализа, что и было осуществлено в „Сезоне в аду“.
Одновременно с появлением „субъекта без границ“ происходит процесс деформации, разрушения реальности. В „Сезоне в аду“ Рембо вкладывает в уста „неразумной девы“ такие слова: „Сколько ночей провела я без сна, склонившись над этим родным, погруженным в дремоту телом и раздумывая, почему он так стремится бежать от действительности“ 9 . Настойчивость этого желания объяснима лишь страстью к „неизвестному“ и ощущением тесноты, недостаточности реальности.
Уже Бодлер говорил о том, что первое действие творческой фантазии - разделение, расчленение реальности. Для следующего шага - конструкции, монтажа образа мира - важна идея „пейзажа души“ Верлена, „внутреннего ландшафта“. Дезинтеграция и субъективный
монтаж - принципы построения поэтической модели мира Рембо выводят в XX век, к модернистскому поиску.
Разрушенная, децентрированная реальность оказывается хаотическим скоплением знаков, которое постепенно становится в глазах самого поэта печальным знаком поражения - свидетельством недостаточности реальности и недостижимости „неизвестного“.
Отчуждение, разрыв привычных связей - пространственных, временных, причинных - сопровождается складыванием их в причудливую мозаику, подчиненную субъективному произволу. Озеро вздымается вверх, над горами высится море, собор падает вниз, фортепиано устанавливается в Альпах: „Я свыкся с простейшими из нав аждений: явственно видел мечеть на месте завода, школу барабанщиков, руководимую ангелами, шарабаны на небесных дорогах, салоны в озерной глубине...“ 10 . Все пейзажи, звезды, цветы, дети, мосты, здания, ангелы составляются в головокружительный калейдоскоп, „парадиз неистового лицедейства“.
Действительность превращается в чувственно воспринимаемую неизвестность; заново создавая облик мира, творческий субъект утверждает свою безграничную свободу: „Я один подобрал ключ к этому дикому параду-алле“ 11 . Фантазия агрессивна, она разрушает, искажает привычную картину реальности. Творческий акт, по сути, оказывается актом насилия - и по отношению к творцу, уродующему себя на манер компрачикосов, и по отношению к миру. Не случайно в текстах Рембо так часты образы жестокости, изувеченного, искале ченного тела („Украденное сердце“, „Стыд“) - даже в белоснежном теле Прекрасного Создания зияют страшные кровавые раны.
Поэзия, которая создается подобным образом, требует нового языка, способного запечатлеть „то, что лишь мерещится живущим“ - чувственную ирреальность видения. По определению Рембо, данному в письмах о ясновидении, это должен быть язык, „на котором одна душа разговаривает с другой, язык, вобравший в себя все - запах, звук, цвет, когда одна мысль объединяется с другой - и устремляется вперед“ 13 .
Этот язык, по представлениям Рембо, должен соответствовать задачам коммуникации высшего типа, более напоминающей телепатическое общение. Очевидно, идеал, к которому следует стремиться ясновидцу, - передача мыслеформ, без опосредования мысли в слове. Однако достижение этого идеала сразу невозможно - если поэт хочет быть понятым, он вынужден использовать слова. Миссия поэта
как „похитителя огня“ - работать со словом, реформировать его, максимально приближая речевое общение к телепатическому, - это Рембо называет Великим Деланием, алхимией слова.
„Все началось с поисков. Я записывал голоса безмолвия и ночи, пытался выразить невыразимое. Запечатлевал ход головокружений...“ 14 .
Для Рембо идея ясновидческой поэзии, ее дух, пафос и новый язык приходят в столкновение с традиционной эстетикой - „старой формой“. Приверженность к „старой форме“, к канонам ритори ческой культуры отличает не только старших романтиков (о Ламартине Рембо прямо заявляет, что его ясновидческий дар был удушен старой формой). Младшие романтики, вплотную подошедшие к ясновидению, не смогли преодолеть инерцию и в целом остались в рамках канона; и даже Бодлер - „первый ясновидец“, „король поэтов“ - для Рембо все же „слишком художник“ 15 , ибо он видел многое, но не всегда умел выразить увиденное, будучи стесненным устаревшими правилами, эстетической системой, неадекватной его дарованию. Для Рембо очевидно - „исследование неведомого требует поиска новых форм“ 16 .
„Точка отправления Рембо-поэта настолько помечена традици ей, что, кажется, не обещает стремительного движения“ 17 , - пишет Л. Г. Андреев о первых стихотворениях с их ощутимой зависимостью от классицистских канонов и романтической традиции. Однако усвоенные Рембо литературные образцы быстро подвергаются переработке и превращаются в совершенно иную субстанцию.
В школе Рембо основательно изучил классическое наследие, пи сал латинские стихи. Вскоре в его текстах античность предстает в гротескном и шутовском виде - античные боги сбрасываются с пьедестала, красивейшие мифы (рождение Афродиты из морской Пены) превращаются в апофеоз безобразного. Атака направлена, впрочем, не столько против античного мира, сколько против более современных образцов - Парнаса. Не менее агрессивен Рембо и по отношению к романтическому штампу - в длинном и язвительном стихотворении „Что говорят поэту о цветах“ высмеивается вся поэтическая оранжерея (розы, лилии, фиалки) и предлагается воспевать совсем иную флору - хлопок, табак, исландский мох, болезнь картофеля.
Говоря о разрыве с традицией и старой формой, нередко имеют в виду, что Рембо разрушил поэтическую форму вообще. Традиционно при описании поэзии периода ясновидения говорится об ее хаотичности, бессвязности, алогичности, спонтанности - „полная анархия“ (А. Киттанг), „свободный поток слов“ (Ж.-П. Джусто), „продукт свободной игры“ (Ж.-П. Брюнель) 18 . Критика, однако, часто идет на поводу у стремления обязательно представить Рембо как предшественника „автоматического письма“, предтечу сюрреалистов - „разрушителей литературы“. По оставшимся черновикам и на броскам, по свидетельствам современников можно установить, что Рембо упорно работал над текстом, изводил массу бумаги, добиваясь нужного результата, перерывал словари в поисках редких, необыч ных, устаревших слов („Разное поэтическое старье пришлось весьма кстати в моей поэтической алхимии“ 19 ). Фрагментарность, темнота, хаотичность его стиля не результат неконтролируемого порыва, но плод упорного поиска. Как же видения претворяются в слово, какую технику избирает Рембо, отказываясь от „старой формы“?
Выстраивание ассоциативных цепочек и эллипсис - основные приемы, через которые духовный опыт (откровение, видение) сгущается, концентрируется и превращается в эстетический феномен. Любой текст Рембо периода ясновидения - субъективная эллиптическая эпопея, которую отличает любопытный контраст между цельностью аффекта, единством переживания и фрагментарностью, „неполнотой“ формы. Этот контраст - отличительная черта поэтики эллипсиса или поэтики „разрыва“.
Семантическая и синтаксическая фактура ясновидческой поэзии демонстрирует опору поэта на резервы внутренней и эгоцентрической речи. Л. С. Выготский, как известно, классифицирует виды речи в зависимости от степени развернутости, проговоренности мысли, на речь „внешнюю“ („социальную“), речь «внутреннюю“ и речь эгоцентрическую“ - переходную от внешней к внутренней 20 . Социальная речь, письменная и устная, имеющая выраженную коммуникативную установку, по определению гораздо более развернута, чем речь эгоцентрическая. Внутренняя же речь „сгущена“, синтетична, смысл в ней преобладает над значением, весь контекст - над словом. Отличительные черты синтаксиса Рембо в „Озарениях“ совпадают с признаками эгоцентрической и внутренней речи. Во-первых, это предикативность, во-вторых - эллиптичность.
Обращение к резервам внутренней речи придает поэзии Рембо все более монологический характер и побуждает поставить вопрос об адресате, которому поэт направляет свое послание. Если рассматривать поэтический текст с точки зрения его коммуникативной функции (коммуникативная цепочка „автор - текст - читатель“), то следствием поэтики эллипсиса оказывается нарушение постулатов нормальной коммуникации (ПНК) 21 . С отказом от соблюдения ПНК связан момент эпатажа в текстах Рембо, который часто будто бы нарочно стремится дезориентировать читателя, повергнуть его в состояние недоумения и раздражения.
Прежде всего это постулат, требующий, чтобы у всякого события была определенная причина. Нарушение причинно-следственной связи - систематический прием в поэтике эллипсиса: „Усопшая юная мама сходит с крыльца... Братец (он в Индии!) ближе к закату, на поле гвоздики“. В мире индетерминизма время не существует („Есть часы, что вовеки не бьют“ 22 ) или существует иначе, чем в привычной жизненной реальности:
Принц и Гений, может статься, исчезли, канули в стихию здоровья. Да и как могли они не умереть? Итак, оба они умерли.
Но Принц в преклонном возрасте скончался у себя во дворце.
(Сказка. Пер. В. Орла)
Результатом нарушения причинно-следственных связей является отказ от постулата об общем знании. Для коммуникации необходимо, чтобы существовало некоторое количество общих элементов в памяти автора текста и реципиента. Как отмечают О. и И. Ревзины, „память - это в основном коллекция событий, позволяющих восстанавливать следствие всякой вещи. Если мир детерминизма не может быть понятен без памяти, мир индетерминизма исключает общую память“ 23 .
При отсутствии общей памяти требуется развернутое описание, восполняющее недостающую информацию. Рембо же заменяет описание ссылкой на якобы существующее „общее знание“с читателем, хотя этого знания нет и не может быть:
Сестре моей Луизе Ванан из Ворингема. К Северному морю повернут ее голубой чепец...
Сестре моей Леони Обуа из Эшби. Поющая и смрадная летняя трава - бау. - За матерей и детей в лихорадке.
Лулу - демоническому созданию, не утратившему пристрастия к молельням времен Подруг и своего незаконченного образования. За мужчин! Госпоже ***
(Благочестие. Пер. И. Кузнецовой)
В этом отрывке нарушается еще один важный постулат - о семантической связности. Законы языка предполагают семантические ограничения - слово или группа слов не может произвольно соче таться с абсолютно любым другим словом даже при сохранении правильной грамматической структуры. Словоупотребление Рембо также опирается на внутреннюю речь и идею текучести смыслов. Соответственно, частое нарушение семантической связности - наиболее яркая черта его идиолекта.
Внутренняя речь - это операции над смыслами, а не над значениями слов. Смыслы, широкие и подвижные, взаимодействуют друг с другом иначе, нежели значения. Смыслы вливаются один в другой, влияют друг на друга - и в итоге для перевода смысла внутренней речи на язык социальной речи пришлось бы развертывать длинные цепочки слов. Слово во внутренней речи как бы вбирает в себя весь контекст, оказываясь несравненно более нагруженным разными коннотациями, чем слово внешней речи.
Так, например, слово „пьяный“ имеет определенное, постоянное значение, одинаковое для любого контекста, в котором оно встречается. Тем не менее, в контексте стихотворения „Пьяный корабль“ оно получает новый, более широкий интеллектуальный и эмоциональный смысл, означая уже и „вдохновенный“, и „безумный“, и „ясновидящий, пророческий“, и „обреченный“, и многое другое. Это обогащение слова новым смыслом, который оно впитывает из контекста, обеспечивает динамику мысли. Слово обретает смысл в контексте предложения, предложение - в контексте стихотворения, стихотворение - в контексте всего творчества автора.
Помимо контекста, любая высказанная фраза имеет свой подтекст - скрывающуюся за ней мысль с ее мотивацией. При анализе любого высказывания мы вполне понимаем его, лишь добравшись до самого потаенного плана речевого мышления - его мотивации. В „Сезоне в аду“ Рембо поясняет мотивацию, стоявшую за созданием „Песни самой высокой башни“: „Характер мой ожесточался. Я прощался с миром, сочиняя что-то вроде романсов“ 24 . Без учета этого мотива восприятие стихотворения может быть совсем иным - И. Бонфуа, например, усматривает в нем жажду) жизни, эйфорию, возникающую от ощущения полноты бытия.
По своей функции внутренняя речь не предназначена для коммуникации, это речь для себя. Потому самая большая проблема, связанная с ее пониманием, - ее индивидуальный, сугубо субъективный характер. Каждое слово, функционируя в эгоцентрической речи, обретает постепенно новые оттенки, коннотации, благодаря чему разрастается поле его смысла. Л. С. Выготский определяет словесные значения эгоцентрической речи как „идиомы“, непереводимые на язык внешней речи, - они понятны только в речи внутренней, полной эллипсиса, пропусков. Слияние многообразных смыслов в одном слове, уникальность, индивидуальность их сочетания и придает идиоматический характер семантике эгоцентрической речи.
Внутренняя и эгоцентрическая речь, как легко видеть, оказывается тем артезианским колодцем, откуда могут быть извлечены самые неожиданные, яркие и перспективные ассоциации. Ассоциация - основной инструмент развития, залог динамики смысла. Ассоциация, соединяющая слово и значение, может закрепляться или ослабляться, обрастать связями с другими предметами, распространяться по сходству, смежности. Закрепление ассоциаций порождает общепринятые смыслы, эксплуатация которых приводит к появлению шаблона, штампа, эпигонства. Открытия же, обеспечивающие динамику смыслов, развитие и обогащение мышления, основаны на ярких и непривычных ассоциациях; чем неожиданней ассоциация, тем значительнее скачок в развитии смысла, и часто для восприятия и закрепления этой находки культурному сообществу требуется длительное время.
Встречая непредсказуемую ассоциацию, мысль реципиента возбуждается, начинает активно искать ключ к пониманию, „примеряя“ полученную информацию к структуре своей мысли. Этот процесс доставляет глубокое наслаждение, если поиск увенчался успехом. При этом смысл, заложенный автором, претерпевает значительную трансформацию - трактовка смысла так же субъективна, как и его происхождение. Если же соответствия отыскать не удалось, реципиент испытывает фрустрацию и отторжение - возникает феномен „непонятого гения“. Далеко не всякая ассоциация, основанная на индивидуальности внутренней речи, может быть воспринята другим сознанием. Однако усилия интерпретаторов, направленные на преодоление инерции восприятия, постепенно дают плоды. Так мы получаем в конце XX века сыровара, любующегося треугольной женщиной Пикассо.
Творчество тех поэтов-новаторов, которые опираются на резервы внутренней и эгоцентрической речи, нуждается в грамотной интерпретации, ибо оно может стать как основой увлекательных от крытий, так и источником величайшего разочарования.
Метод работы с такими текстами должен пониматься в исконном, буквальном смысле этого слова: „метод“ как „путь“. Метод включает в себя как дешифровку, так и „досоздание“, „дописывание“ текста. Этот подход отражает двухуровневую структуру поэтического мира. Образность, ассоциации, семантические поля слов определяются у автора, с одной стороны, культурным контекстом, с другой - субъективностью эгоцентрической речи, в которой концентрируется потаенная жизнь души.
Первый уровень предполагает анализ интертекстуальности, вы деление в идиолекте культурно обусловленных элементов, и их трансформацию, „переплавку“ под пером поэта. Здесь критик высту пает как аналитик, эрудированный комментатор. Второй уровень - это область, где мы вступаем на зыбкую почву смутных догадок и предположений, порой бездоказательных. Здесь требуется „критик как художник“, соавтор поэта, мобилизующий свою творческую ин туицию и вкус.
Первый уровень подлежит реконструкции и дешифровке в максимально полном объеме, второй - лишь в малой степени, причем вопрос о достоверности и оправданности этой реконструкции на всегда останется вопросом. Именно эти потерянные звенья в цепочке ассоциаций, загадку которых нам уже никогда не разгадать 25 , в первую очередь провоцируют на досоздание текста, возвращение ему целостности в воображении читающего. При этом конечный продукт, возникающий в воображении реципиента, будет неизбежно окрашен читательской субъективностью - эллиптический текст приглашает к такому прочтению.
Судьба А.Рембо удивительна. Романтическая «трещина» прошлась по его жизни и расколола ее надвое. Если в своем поэтическом бытии он был яростным ниспровергателем всего буржуазного и мещанского, то, умолкнув, стал частью того общество, которое раньше стремился разрушить. Поэт-бунтарь превратился в обывателя. До сих пор его уход из поэзии остается тайной. Была ли это усталость, горечь от непонимания окружающих? Или осознание того, что он как поэт неспособен найти адекватное объяснение мира? Или сама поэзия бессмысленна? В его черновиках к Пребыванию в аду написано: «искусство – глупость». Или же этот гений-дитя так стремительно и с такой исчерпывающей полнотой исполнил свой долг на земле, что ему, опустошенному, оставалось только уйти и раствориться в толпе?
Поэтика как научная дисциплина.
1. Сущность поэтики.
2. Виды поэтики.
Суть поэтики.
Поэтика – это дисциплина, изучающая структуру, характерные особенности и содержательность литературно-художественной формы.
Говоря о значении знаний в области поэтики не только для литературоведения, но и для общей культуры вообще, еще в начале 20-х годов ХХ в. известный русский литературовед В. Жирмунский справедливо подчеркивал: «Поэтика, как всякая наука об искусстве, может играть существенную практическую роль в художественном воспитании, а потому она окажет поддержку и литературному критику, и педагогу, и даже, если хотите, интеллигентному читателю, воспитывая в нем уважение к художественным особенностям литературного произведения, обостряя и углубляя художественную восприимчивость».
Очевидно, не только теоретическими, но и указанными практическими задачами обусловлена заинтересованность вопросами поэтики еще в глубокой древности, в частности, на Востоке (Индия, Китай, Япония) и в античном мире (Древняя Греция, Рим). Причем, заинтересованность этим возникла и воплотилась в фундаментальных работах независимо друг от друга.
Возникновение европейской поэтики относится к 5-4 в. до н. э. Она начинается учениями софистов, работами Платона, «Поэтикой» («Об поэтическое искусство») Аристотеля, «Посланием к Пизон» Горация и др., в которых говорилось о сущности искусства слова вообще, о теории мамесису (подражания), кáтарсиса (своеобразное «очищение» с помощью драматических произведений), о разделе художественной литературы на три рода (лирику, эпос и драму) и т.д..
Античная поэтика, в отличие от риторики не была нормативной. Стала она таковой во времена Средневековья и Возрождения, когда написание стихов на латинском языке вошло в школьную европейское обучение и появилась необходимость, на основе античных традиций, создать определенный свод унифицированных правил. Так возникли работы М. Г. Вида «Искусство поэтики» (1527), П. де Рансара «Поэтическое искусство» (1555), Ю. Ц. Скалигера «Семь книг поэтики» (1561) и др.
Окончательно же поэтика оформилась в нормативную систему отдельных предписаний (в частности, о трех «штилях» в литературе, единство времени, места и действия в драматических произведениях и др.) в эпоху классицизма, что закрепилось выходом книги Н. Буало «Поэтическое искусство» (1674). Однако изменения в общественной жизни, попытки теоретического осмысления не только поэзии, но и прозы, работы просветителей (Г. Э. Лессинг, Д. Дидро), развитие философской мысли (Г.В.Ф. Гегель), исторических идей (Дж. Вико, И. Г. Гердер), возникновение романтизма, который обратил внимание и на фольклор, и на прозаические виды словесного искусства, на индивидуальное самовыражение художника (Ё.В.Гётэ, братья Ф. и А. Шлегели, Ф. Шиллер) – все это нанесло смертельный удар нормативной поэтике классицистического типа.
Похоронить нормативность прежней поэтики помогли и работы русских революционных демократов В. Белинского («Разделение поэзии на роды и виды», 1841), М. Добролюбова, Н. Чернышевского, А. Герцена, высказывания о литературе А. Пушкина, Н. Гоголя, И. Тургенева, Л. Толстого и проч.
Во второй половине XIX в. в Российской империи оригинальные концепции поэтики разработали А.Потебня и А. Веселовский.
Определенный вклад в развитие поэтики внесли ученые Беларуси.
Господство в советском литературоведении вульгарного социологизма в 1930-1950 гг. не способствовали изучению формы литературно-художественных произведений. Понятие и даже само слово «поэтика» (как и «генетика») было почти полностью вытеснены из литературного обихода.
Исследования по поэтике (как и реабилитация самого термина) начались с 60-х годов ХХ в. В Беларуси начинается изучение метрики и ритмики стиха (Иван Ралько, Николай Гринчик, Вячеслав Рагойша, Алла Кабакович, Виктор Ярош, Владимир Словецкий), его композиционных особенностей и словесно-поэтической образности (А. Яскевич, Янка Шпаковский), метафоры и символа (Ирина Шавлякова-Борзенко).
Исследователи обращаются к поэтики отдельных жанров: пословиц и поговорок (Николай Янковский), загадок (Нил Гилевич), песен (Нил Гилевич, Арсен Лис, Лия Соловей, Валентина Ковтун), детского фольклора (Галина Барташевич). Появились также специальные исследования о поэтике Максима Танка (Вячеслав Рагойша), М. Богдановича (Алла Кабакович), А. Рязанова (Анна Кислицына), Р. Бородулина (Алесь Дубровский), некоторых других писателей (коллективное исследование «Стиль писателя». Минск, 1974).
Вышло несколько учебных пособий по общей поэтике для студентов и школьников: «Основы советского литературоведения» Ивана Гуторова (2-е изд. Минск, 1967), «Введение в литературоведение» Михаила Лазарука и Елены Ленсу (2-е изд. Минск, 1982), «Вопросы теории литературы» Николая Палкина (2-е изд. Минск, 1979), «Практикум по введению в литературоведение» Алексея Мойсейчика (Минск, 1980).
Создано несколько литературоведческих словарей «Краткий литературоведческий словарь» Алеся Макаревича (2-е изд. Минск, 1969), «Словарь литературоведческих терминов» Михаила Лазарука и Елены Ленсу (2-е изд. Минск, 1996), «Поэтический словарь» (3 е изд. Минск, 2004) и «Теория литературы в терминах» (Минск, 2001) Вячеслава Рагойши.
Белорусская поэтика развивается в русле всей европейской поэтики, которая стоит сегодня на грани эстетики, литературоведения, языкознания, использует отдельные положения математики, кибернетики, теории информации, семиотики. Однако единой методики исследования еще не выработано. Большинство ученых, опираясь на достижения гуманитарных и точных наук, выступают против схематизации живых литературных явлений, что наблюдается в современном структурализме, стремятся изучать элементы формы неотъемлемо от содержания произведения.
2. Виды поэтики .
Как наука поэтика разделяется на:
– теоретическую (общую, или макропоэтику),
– функциональную (описательную, или микропоэтику),
– историческую,
– сравнительную,
– практическую.
Теоретическая поэтика сближается с целым рядом разделов теории литературы. Она рассматривает все возможные способы и средства воплощения авторского замысла, их соответствие литературным родам, видам, жанрам.
Так, поэтика стиха анализирует его лексику, тропы, синтаксис, интонацию, метрику и ритмику, фонику, рифмику, строфику, композицию, жанры и виды стиха.
Поэтика драматургии, кроме указанных языково-изобразительных средств, обращает внимание на идейное содержание, проблематику произведений, характер драматического конфликта, развитие сюжетного действия, композицию, образы-персонажи и средства их создания (речь, поступки, характеристика устами других действующих лиц и др.).
Поэтика прозы к сказанному добавляет рассмотрение других способов характеристики того или иного персонажа (рассказ от имени третьего лица, дневник персонажа, его эпистолярия и др.), приемов психологизма, хронотоп (художественный время и художественное пространство), обращает внимание на художественные детали, портрет, пейзаж, внесюжетные компоненты произведения (авторские отступления, вставные новеллы) и др.
Обычно проблемы общей поэтики рассматриваются в учебных пособиях восточнославянских и западных ученых по теории литературы и введении в литературоведение.
Функциональная поэтика исследует эстетические компоненты произведений определенного литературного направления или периода, отдельного вида или жанра (поэтика романтизма, реализма, древней белорусского литературы, русской поэзии «серебряного века», белорусских заговоров, романа, сонета и т.д.). Вместе с тем функциональная поэтика изучает и обусловленную идейной замыслом художника систему его способов и средств образного постижения мира в их содержательной, смысловыявляющей сути.
Предмет исторической поэтики – происхождение и эволюция художественных средств (тропы, стилистические фигуры, стихосложение) и категорий (художественное время, пространство, красивое, величественное, трагическое и др.) в зависимости от социально-исторических и чисто литературных условий.
Вместе с тем, историческая поэтика исследует «развитие жанров и стилей от синкретизма к расслоению, от мифа к фольклору, от устного творчества к письменной, от обслуживания художниками внелитературных интересов к осознанию имманентной сущности искусства; характеризует эволюцию письменности с его кризисами, обновлениями, борьбой литературных групп, школ, группировок, стильных тенденций, направлений »(Ю. Ковалев). Широко пользуется сравнительно-историческим методом исследования, стремится обобщить результаты мирового литературного процесса. Родоначальником исторической поэтики является выдающийся русский ученый Александр Веселовский (1838-1906), автор широкоизвестной сегодня «Историческая поэтики».
Сравнительная поэтика занимается типологическим сопоставлением способов и средств образного отражения мира двух или более писателей, двух или более национальных литератур. Основывается на сравнительной стилистике, пользуется данными художественного перевода.
Сравнение литературных явлений может проводиться как на звуковом, так на лексическом и образным уровнях.
В литературоведении уже очерчиваются некоторые отрасли сравнительной поэтики, в частности – сравнительного стихосложения (метрика, рифмика, строфика и др.). Кроме чисто теоретического достоинства, такие исследования приобретают и стоимость практическую. Они могут оказать ощутимую помощь стихотворного перевода. Дело в том, что в разных литературах системы стихосложения и виды стиха занимают не одинаковое положение. Выявить это может только сравнительная поэтика.
Практическую поэтику составляют различные курсы и пособия по общей поэтике, рассчитанные на широкого читателя. Ее задача – воспитание поэтической культуры, ознакомление читателей с основами искусства слова (в частности, с основами стихосложения).
На характер исследования поэтики всех пяти ее видов несомненное влияние оказывает то, к каким научным школам принадлежат (принадлежали) литературоведы, которыми литературоведческими методами они пользуются (пользовались). В соответствии с этим выделяется поэтика формальная, социологическая, структуралистская, лингвистическая.
В 20-е годы ХХ в., во время бытования концепций вульгарного социологизма и формализма, возникли социологическая и формальная
поэтики.
Если мир, бытие и жизнь людей - лишь обман, который "исчезает, как дым", то что же остается? Есть ли вообще что-то постоянное и абсолютное? Есть, вслед за Ницше считали декаденты, - это красота. Все декадентское искусство, по сути, - взгляд сквозь призму эстетизма: эстетизируется зло, эстетизируется смерть, эстетизируется все... Однако есть области, где красота реализуется наиболее полно. Прежде всего это мир фантазии, мир поэтического вымысла. Более того, не только прекрасное есть то, чего не существует, но и, наоборот: то, что не существует, - прекрасно. Поэт желает лишь того, "чего нет па свете" (3. Н. Гиппиус).
Декаденты абсолютизировали красоту. Некоторым из них была близка мысль Ф. Достоевского о том, что красота спасет мир. Неземная красота позволяет увидеть многообразие и глубину материального мира. Вот как об этом пишет Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) в стихотворении "Эдельвейс" (1896):
Я на землю смотрю с голубой высоты, Я люблю эдельвейс - неземные цветы, Что растут далеко от обычных оков, Как застенчивый сон заповедных снегов.
С голубой высоты я на землю смотрю, И безгласной мечтой я с душой говорю, С той незримой Душой, что мерцает во мне В те часы, как иду к неземной вышине.
И, помедлив, уйду с высоты голубой, Не оставив следа на снегах за собой, Но один лишь намек, белоснежный цветок, Мне напомнит, что мир бесконечно широк.
К. Д. Бальмонт создает особый жанр символической пейзажной лирики, где сквозь все детали земного ландшафта проступает неземная символическая красота. Вот его программное стихотворение, открывавшее стихотворный сборник "В безбрежности" (1895):
Я мечтою ловил уходящие тени, Уходящие тени погасшего дня, Я на башню всходил, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня.
И чем выше я шел, тем ясней рисовались, Тем ясней рисовались очертанья вдали. И какие-то звуки вокруг раздавались, Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.
Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, Тем светлее сверкали выси дремлющих гор, И сияньем прощальным как будто ласкали, Словно нежно ласкали отуманенный взор.
А внизу подо мною уж ночь наступила, Уже ночь наступила для уснувшей Земли, Для меня же блистало дневное светило, Огневое светило догорало вдали.
Я узнал, как ловить уходящие тени, Уходящие тени потускневшего дня, И все выше я шел, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня.
Другой важной темой, также связанной с красотой, для декадентов была любовь - земная и страстная, иногда даже порочная (такова в значительной мере любовная лирика В. Я. Брюсова). В любви они видели те же стихии, что и в природе, поэтому любовная лирика родственна пейзажной. Близкая к символизму поэтесса Мирра (Мария
Александровна) Лохвицкая (1869-1905), которую современники называли "русской Сафо", воспевает любовь как стихию, равной которой нет во Вселенной:
Я люблю тебя, как море любит солнечный восход, Как нарцисс, к волне склоненный,
- - блеск и холод сонных вод. Я люблю тебя, как звезды любят месяц золотой, Как поэт - свое созданье, вознесенное мечтой. Я люблю тебя, как пламя - однодневки-мотыльки, От любви изнемогая, изнывая от тоски. Я люблю тебя, как любит звонкий ветер камыши, Я люблю тебя всей волей, всеми струнами души. Я люблю тебя, как любят неразгаданные сны: Больше солнца, больше счастья, больше жизни и весны.
- ("Я люблю тебя, как море любит солнечный восход...", 1899)
Декадентский культ красоты связан также с повышенным вниманием к культуре стиха, в первую очередь к его ритмической и звуковой структуре. Звучание стиха - не просто форма, в которую "заключается" содержание; оно должно быть гармонично, благозвучно и значимо (поскольку все в мире символично, символичной должна быть и форма стиха). Особенно велики заслуги в развитии стихотворной формы у В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта. Никто в русской поэзии еще не писал таких благозвучных стихов, как Бальмонт (например, приведенное выше стихотворение "Я мечтою ловил уходящие тени..."). Именно развитие мелодичности стиха Бальмонт считал своей основной заслугой. Более того, он и самого себя идентифицировал с материей стиха:
Я - изысканность русской медлительной речи, Предо мною другие поэты - предтечи, Я впервые открыл в этой речи уклоны, Перепевные, гневные, нежные звоны.
("Я - изысканность русской медлительной речи...", 1901)
Культ прекрасного в стихе - частный случай декадентского представления об искусстве как высшем виде человеческой деятельности. Искусство выше не только обыденной практической деятельности, но и выше науки, философии.
"Наука раскрывает законы природы, искусство творит новую природу, писал II. М. Минский и "Старинный спор- (1881). одном из первых программных документов русского модернизма. - Творчество существует только в искусстве, и только одно творчество творит новую природу. Величайшие гении науки, как Ньютон, Кеплер и Дарвин, объяснившие нам законы, но которым движутся миры и развивается жизнь, сами не создали ни одной пылинки. Между тем Рафаэль и Шекспир, не открыв ни одного точного закона природы, создали каждый по новому человечеству. Только художник имеет право, подобно гётевскому Прометею, говорить, обращаясь к Зевсу: "Здесь я сижу и творю людей, как ты.
Любой творческий акт приближает художника к демиургу (богу-творцу). Деятельность художника - это не работа, не труд в обычном смысле слова, а таинство, мистерия, волшебство. Показательно в этом смысле заглавие брошюры К. Д. Бальмонта "Поэзия как волшебство" (1915), в которой он обобщает свой опыт поэта-символиста.
Младшие символисты (в основном это были поэты, считавшие себя учениками В. Соловьева), вступившие в литературу в начале века, стремились противопоставить себя декадентам, которых они причисляли к "черным магам" (так называют колдунов, ведьм и т.п.). Себя они называли "теургами", или "белыми магами", и если старшие символисты связывали свое творчество со служением культу Сатаны, то младшие считали себя пророками, воплощающими божественную волю. Наиболее значительными представителями младших символистов были Л. Л. Блок, Л. Белый и Вячеслав Иванович Иванов (1866-1949). Довольно заметным явлением русского символизма стал и поэт литовского происхождения Юргис Балтрушайтис (1873-1944), писавший стихи и по-литовски.
Младшие символисты не только противопоставляли себя декадентству; в их творчестве действительно было много нового. Как и В. С. Соловьев, они были твердо убеждены в реальном существовании мира божественных идей. Как и Соловьев, они верили, что противоположность идеального и материального миров, божественной гармонии и земного хаоса не абсолютна и не вечна, более того приближается конец старого мира. Себя же они считали предвестниками мира нового. Предчувствие неизбежного наступления нового мира было уже у прямых предшественников младших символистов - так называемых петербургских мистиков, творивших в 1890-е гг. (Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус и др.). Однако у "мистиков" это чувство было окрашено в трагические, пессимистичные тона: пророки будущего сами до этого будущего не доживут. В стихотворении Д. С. Мережковского "Дети ночи" (1894) есть такие строки:
Устремляя наши очи На бледнеющий восток, Дети скорби, дети ночи, Ждем, придет ли наш пророк. Мы неведомое чуем, И, с надеждою в сердцах, Умирая, мы тоскуем О несозданных мирах. Мы - над бездною ступени, Дети мрака, солнца ждем: Свет увидим - и, как тени, Мы в лучах его умрем.
У младших символистов эта тема получает иной поворот: они не только предвестники, по и свидетели нового мира, который родится в момент мистического синтеза неба и земли, в момент окончательного сошествия на землю Вечной Женственности. Вот сонет из цикла А. А. Блока "Стихи о Прекрасной Даме":
За городом в полях весною воздух дышит. Иду и трепещу в предвестии огня. Там, знаю, впереди - морскую зыбь колышет Дыханье сумрака - и мучает меня.
Я помню: далеко шумит, шумит столица. Там, в сумерках весны, неугомонный зной. О, скудные сердца! Как безнадежны лица! Не знавшие весны тоскуют над собой.
А здесь, как память лет невинных и великих, Из сумрака зари - неведомые лики Вещают жизни строй и вечности огни...
Забудем дольний шум. Явись ко мне без гнева. Закатная, Таинственная Дева, И завтра и вчера огнем соедини.
("За городом в полях весною воздух дышит...", 1901)
В этом стихотворении находим характерное для Блока противопоставление суетного "дольнего шума" современной столичной жизни и Прекрасной Дамы (которая здесь названа Таинственной Девой). Современный человек целиком погружен в суету мира, он не замечает ничего, кроме самого себя, и "тоскует над собой", в то время как природа уже живет ожиданием прихода Вечной Женственности. Пейзаж таинствен и символичен: сумрак тревожно дышит в ожидании весны, причем весна здесь - не только время года, но и символ рождения нового мира. Через все стихотворение проходит тема огня: это и свет зари, и проступающий сквозь него очистительный огонь вечности. (Огонь был символом чистоты в различных культурах древности, в культуре Нового времени он связан с философией Ф. Ницше.) Лирический герой стихотворения в окружении природы и вместе с ней погружен в ожидание Ее. В последней строке огонь выступает уже не только как разрушительная, но и как созидательная сила: он соединяет время, ибо в будущем мире времени нет ("Времени больше не будет" - такое пророчество содержится в Апокалипсисе, заключительной книге Нового Завета).
Мистическая любовь принимает в ранней лирике Блока личностный облик - Вечная Женственность воплощается в облике реальной женщины, через любовь к которой происходит приобщение к мистической любви.
В поэзии А. Белого довольно близкие переживания воплотились в образе "возлюбленной Вечности". Вот начало его стихотворения "Образ Вечности" (1903):
Образ возлюбленной - Вечности - встретил меня на горах. Сердце в беспечности. Гул, прозвучавший в веках.
В жизни загубленной
образ возлюбленной,
образ возлюбленной - Вечности,
с ясной улыбкой на милых устах.
Символистическая система соответствий, постоянное соотнесение, а иногда и смешение различных планов реальности приводит к тому, что ни одна вещь не воспринимается "просто" - сквозь нее "проступает" что-то другое, символом чего она является. Это сближает символистическое мироощущение с наиболее древними формами искусства, основанными на мифе. Символисты сами понимали эту связь и всячески ее подчеркивали: мифотворчество играет значительную роль как в их искусстве, так и в жизни. Мифологический текст отличается от литературного произведения не столько своим содержанием, сколько отношением к миру. Литературный текст имеет начало и конец, у него есть автор и читатель. То, что он описывает, может быть правдой, но может и содержать различные формы вымысла, причем предполагается, что читатель в принципе отличает правду от вымысла (на сознательном сбивании читателя с толку основываются литературные мистификации, в которых автор пытается выдать вымысел за реальность). Миф же не имеет ни начала, ни конца, он принципиально открыт, и в него могут включаться все новые элементы. Миф не знает разграничения автора и читателя; его не создают и не читают его творят, им живут. Миф разыгрывается в ритуале, и каждый участник ритуала творит миф. Про миф нельзя сказать, правда это или выдумка, ибо миф строится по особой логике, в которой не действует закон противоречия.
Как уже неоднократно упоминалось, для творчества младших символистов были исключительно важны религиозно-философские идеи В. С. Соловьева, однако, в отличие от самого Соловьева, для них эти идеи имели в значительной степени мифологизированный характер, были не философской конструкцией, а способом жизни. Возрождение интереса к мифологии - вообще характерная черта модернистских направлений искусства XX столетия, и в существенной мере именно символизм заложил основные принципы этого нового мифологизма.
Если интерес ic мифологии и мифотворчеству был характерен для всех младших символистов, то конкретные формы, которые принимал и их творчестве, имели у каждого из них важные отличия. Так, В. И. Иванов, глубоко эрудированный историк и филолог, воскрешал в своем творчестве мифологию Античности. Те мифы и легенды, которые заучивались в гимназиях и изучались в университетах, мифы и легенды, которые создавались давно умершими людьми на давно уже мертвых языках, вдруг оказались захватывающе современными, увлекательными и прекрасными. Вот как Иванов описывает менаду (вакханку, участницу мистерии в честь бога Диониса):
Бурно ринулась Менада
Словно лань,
Словно лань, С сердцем, вспугнутым из персей,
Словно лань,
Словно лань, С сердцем, бьющимся, как сокол
Во плену,
Во плену, С сердцем, яростным, как солнце
С сердцем, жертвенным, как солнце Ввечеру, Ввечеру...
("Менада", 1906)
Смерть и возрождение Диониса, торжественно отмечавшиеся в Древней Греции каждый год (Дионис принадлежал к числу умирающих и воскресающих богов), Иванов сумел изобразить как событие не литературного, но жизненного трагизма.
Для Александра Блока важна не филологическая чистота и историческая точность мифа, а его принципиальная открытость. В отличие от Вячеслава Иванова он не стремится возродить в современном человеке психологические переживания человека Античности, для него мифотворчество - вечно продолжающийся процесс, захватывающий современность. Свои мифы были не только в Античности, но и в Средние века, а также и в литературе Нового времени. Мифология находится вне истории, она связана не с временем, а с вечностью, поэтому в мифе широко встречаются анахронизмы (смешения явлений, принадлежащих различным эпохам).
Образ Прекрасной Дамы, первоначально заимствованный у В. С. Соловьева, постепенно обогащается другими сюжетами и ассоциациями. Это и Коломбина, и Кармен, и Офелия и т.д. Иногда эти вторичные образы как бы оттесняют основной образ Прекрасной Дамы на задний план, как, например, в стихотворении из зрелого творчества Блока "Шаги командора". Здесь речь, казалось бы, идет только о Дон Жуане и Донне Анне, но называние Донны Анны "Девой Света" ясно указывает на то, что она же является и Прекрасной Дамой. В этом стихотворении легенда о Дон Жуане, пригласившем на свое свидание с Донной Анной, вдовой убитого им на дуэли Командора, статую самого Командора, вырвана из привычного пространства и времени (средневековая Испания). Действие стихотворения происходит всегда и всюду. Как явный и демонстративный анахронизм в стихотворении вводится автомобиль - "мотор", как тогда говорили. Донна Анна только что умерла и лежит в своей "пышной спальне", по, с другой стороны, она умерла уже давным-давно и свои "неземные сны" видит в могиле. Действие стихотворения длится лишь несколько мгновений, пока раздается бой часов, по мгновения эти длятся вечно: последние два стиха, выделенные Блоком курсивом, утверждают, что свое окончание этот сюжет получает в момент конца света, когда мертвецы встают из своих гробов, -тогда воскресает и попранная Красота Мира.
Если для Иванова корни мифа в прошлом, для Блока - в настоящем, то для Андрея Белого они в будущем. В этом отношении он близок к послесимволистским течениям модернизма, например к футуризму, где миф приобретает черты утопии. Аргонавты у А. Белого отправляются в путешествие не просто за золотым руном, как в древнегреческом мифе, по за солнцем, радостью, раем.
Как и декаденты, младшие символисты безоговорочно приняли революцию 1905-1907 гг. Как и декаденты, они видели в ней в первую очередь стихию (сравнивали ее с бурей, наводнением и т.п.). Как и декаденты, они были захвачены героическим пафосом революционной борьбы. Например, А. Блок создает в это время такие стихотворения, как "Шли на приступ. Прямо в грудь...", "Ангел-хранитель" и др. В. Иванов обращается к современности и даже пишет политические стихи ("Стансы" и пр.).
Однако в восприятии революционной действительности младшими символистами имелись и свои особенности. Во-первых, революция для них была событием не столько политическим, сколько духовным. Для В. И. Иванова и, отчасти, А. Белого она была "революцией духа", и должна была заключаться в полном перерождении духовного мира человека (позднее эту идею подхватят футуристы, в частности В. В. Маяковский). Во-вторых, революция была для них мистерией - актом космической драмы, разыгрываемой участниками революции. Мистерия эта приобретала отчетливые апокалипсические тона: крушение царизма связывалось с общей гибелью старого мира. Впоследствии сквозь призму этих же представлений Блок и Белый будут смотреть и на Октябрьскую революцию. Так, в заключительном стихе поэмы Блока "Двенадцать" появляется и возглавляет революцию Иисус Христос, что означает конец света, ибо Христос является судить живых и мертвых. Аналогичный образ находим и у Белого, откликнувшегося па Октябрьскую революцию поэмой "Христос воскрес". В-третьих, в отличие от индивидуалистического протеста декадентов, для младших символистов в революции важна ее стихийность и массовость. Такая сторона революции была особенно важна для В. И. Иванова, смотревшего на эту стихию сквозь призму идей Ф. Ницше, который противопоставлял рассудочное и индивидуалистическое начало, восходящее к богу солнца Аполлону, и иррациональное и массовое начало, восходящее к Дионису. Современный ему этап истории России Иванов понимал как движение от аполлонизма к дионисийству, к разгулу стихийных сил, называя его "правым (то есть справедливым) безумием".
После разгрома революции в 1907 г. символизм вступил в полосу кризиса: идеи как декадентов, так и младших символистов оказались в значительной мере исчерпанными, а новых идей не было. Символизм начал терять свое общественное значение, искания поэтов приобрели чисто эстетический характер. Вместе с тем в это время внутри символизма идет важная и напряженная работа, связанная с исследованием самого символизма и литературы вообще. Вопросы стиховедения и теории перевода волновали В. Я. Брюсова. Уже известные мастера слова и совсем неопытные еще авторы собирались на "Башне" у В. И. Иванова. Вскоре эти собрания получили название "Академии стиха". Многие молодые поэты, вступившие в литературу уже после распада символизма, получили здесь свое поэтическое образование. А. Белый, группировавшиеся вокруг него молодые литераторы и литературоведы закладывали основы научного статистического стиховедения. Первые результаты этих исследований были опубликованы в вышедшей в 1910 г. книге А. Белого "Символизм".
Творчество Анны Андреевны Ахматовой - не просто высший образец "женской" поэзии ("Я научила женщин говорить..." - писала она в 1958 г.). Оно являет собой исключительный, ставший возможным только в XX в. синтез женственности и мужественности, тонкого чувства и глубокой мысли, эмоциональной выразительности и редкой для лирики изобразительности (наглядности, представимости образов).
Будучи с 1910 по 1918 г. женой Н.С. Гумилева, Ахматова вступила в поэзию как представительница основанного им направления акмеизма, противопоставлявшего себя символизму с его мистикой, попытками интуитивно постичь непознаваемое, расплывчатостью образов, музыкальностью стиха. Акмеизм был весьма неоднороден (вторая крупнейшая фигура в нем - О.Э. Мандельштам) и просуществовал как таковой недолго, с конца 1912 г. примерно до конца 10-х гг. Но Ахматова никогда от него не отрекалась, хотя ее"развивавшиеся творческие принципы были разнообразнее и сложнее. Первые книги стихов, "Вечер" (1912) и особенно "Четки" (1914), принесли ей славу. В них и последней дореволюционной книге "Белая стая" (1917) определилась поэтическая манера Ахматовой: сочетание недосказанности, не имеющей ничего общего с символистской туманностью, и четкой представимости рисуемых картин, в частности поз, жестов (начальное четверостишие "Песни последней встречи" 1911 г. "Так беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были легки. / Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки" в массовом сознании стало как бы визитной карточкой Ахматовой), выраженность внутреннего мира через внешний (не"редко по контрасту), напоминающая о психологической прозе, пунктирная сюжетность, наличие персонажей и их кратких диалогов, как в маленьких сценках (критика писала о лирических "новеллах" Ахматовой и даже о
"романе-лирике"), преимущественное внимание не к устойчивым состояниям, а к изменениям, к едва наметившемуся, к оттенкам при сильнейшем эмоциональном напряжении, стремление к разговорности речи без ее подчеркнутой прозаизации, отказ от напевности стиха (хотя в позднем творчестве появится и цикл "Песенки"), внешняя отрывочность, например, начало стихотворения с союза, при его малом объеме, многоликость лирического "я" (у ранней Ахматовой несколько героинь разного социального статуса - от светской дамы до крестьянки) при сохранении признаков автобиографизма. Стихи Ахматовой внешне близки классическим, их новаторство не демонстративно, выражается в комплексе признаков. Поэту - слово "поэтесса" Ахматова не признавала - всегда нужен адресат, некое "ты", конкретное или обобщенное. Реальные люди в ее образах зачастую неузнаваемы, несколько человек могут вызвать появление одного лирического персонажа. Ранняя лирика Ахматовой - преимущественно любовная, ее интимность (формы дневника, письма, признания) в значительной степени фиктивна, в лирике, говорила Ахматова, "себя не выдашь". Свое, сугубо личное творчески преображалось в понятное многим, многими переживаемое. Такая позиция позволила тончайшему лирику стать впоследствии выразителем судеб поколения, народа, страны, эпохи.
Размышления об этом вызвала уже Первая мировая война, что сказалось в стихах "Белой стаи". В этой книге резко усилилась религиозность Ахматовой, всегда важная для нее, хотя не во всем ортодоксально православная. Мотив памяти приобрел новый, во многом надличностный характер. Но любовные стихи связывают "Белую стаю" со сборником 1921 г. "Подорожник" (от названия "Лихолетье" отговорили друзья), на две трети состоящим из дореволюционных стихов. Страшный для Ахматовой 1921 г., год известия о самоубийстве любимого брата, год смерти А.А. Блока и расстрела Н.С. Гумилева, обвиненного в участии в белогвардейском заговоре, и 1922 г. отмечены творческим подъемом вопреки тяжелому настроению, личным и бытовым неурядицам. 1922 г. датирована книга "Аппо Оогшш МСМХХ1" ("Лета Господня 1921"). В 1923г. в Берлине вышло второе, расширенное издание "Аппо Оопим", где гражданская позиция поэта, не принявшего новых властей и порядков, была заявлена особенно твердо уже в первом стихотворении "Согражданам", вырезанном цензурой почти из всех поступивших в СССР экземпляров книги. Ахматова в ней оплакивала безвременно ушедших, погубленных, с тревогой смотрела в будущее и принимала на себя крест - обязанность стойко перенести любые тяготы вместе с родиной, оставшись верной себе, национальным традициям, высоким принципам.
После 1923 г. Ахматова почти не печаталась до 1940 г., когда с ее стихов был снят запрет по прихоти Сталина. Но сборник "Из шести книг" (1940), в том числе из отдельно не выходившего "Тростника" (цикл "Ива"), был именно сборником по преимуществу старых стихов (в 1965 г. в состав самого большого прижизненного сборника "Бег времени" войдет тщательно просеянная в издательстве "Седьмая книга", также отдельно не печатавшаяся). В пятой "Северной элегии" (1945) Ахматова признавалась: "И сколько я стихов не написала, / И тайный хор их бродит вкруг меня..." Многие опасные для автора стихи хранились лишь в памяти, из них впоследствии вспомнились отрывки. "Реквием", созданный в основном во второй половине 30-х гг., Ахматова решилась записать только в 1962 г., а напечатан он был в СССР еще через четверть века (1987). Примерно половина ныне опубликованных ахматовских стихов относится к 1909-1922 гг., другая половина создавалась в течение более чем сорока лет. Некоторые годы оказались совершенно бесплодными. Но впечатление исчезновения Ахматовой из поэзии было обманчиво. Главное - она и в самые тяжелые времена создавала произведения высочайшего уровня в противоположность многим советским поэтам и прозаикам, чей дар постепенно угасал.
Патриотические стихи 1941-1945 гг. ("Клятва", "Мужество", "Победителям", стихотворения, позже составившие цикл "Победа", и др.) укрепили положение Ахматовой в литературе, но в 1946 г. она вместе с М.М. Зощенко стала жертвой постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», обвинившего ее поэзию в безыдейности, салонности, отсутствии воспитательного значения, причем в самой грубой форме. Критика на протяжении ряда"лет занимается ее поношением. Поэт выносит травлю с достоинством. В 1958 и 1961 гг. выходят небольшие сборники, в 1965-м - итоговый "Бег времени". Творчество Ахматовой на исходе ее жизни получает международное признание.
Поздние стихи, собранные автором в несколько циклов, тематически разнообразны: афористическая "Вереница четверостиший", философско-автобиографические "Северные элегии", "Венок мертвым" (преимущественно собратьям по перу, нередко также с тяжелой судьбой), стихи о репрессиях, "Античная страничка", "Тайны ремесла", стихи о Царском Селе, интимная лирика, напоминающая прежнюю любовную, но проведенная через поэтическую память, и т.д. Адресат поздней Ахматовой - обычно некое обобщенное "ты", объединяющее живых и мертвых, дорогих автору людей. Зато лирическое "я" теперь не многоликая героиня ранних книг, это образ более автобиографи-
ческий и автопсихологический. Часто поэт выступает от лица выстраданной истины. Ближе к классическим стали формы стиха, торжественнее интонация. Нет прежних "сценок", прежней "вещности" (тщательно отобранной предметной детализации), больше "книжности", сложных переливов мысли и чувства.
Крупнейшим и самым сложным произведением Ахматовой, над которым она работала с 1940 по 1965 г., создав четыре основных редакции, стала "Поэма без героя". В ней подчеркивается единство истории, единство культуры, бессмертие человека, содержатся зашифрованные воспоминания о последнем годе перед мировой катастрофой - 1913-м - и Первая мировая война выступает как предвестие Второй, а также революции, репрессий, вообще всех катаклизмов эпохи ("Приближался не календарный - / Настоящий Двадцатый Век"). Вместе с тем это произведение глубоко личностное, насыщенное намеками и ассоциациями, явными и скрытыми цитатами из литературы XIX и XX вв.
21. Творчество Мандельштама
Имя Мандельштама становится известно в 1910 году, когда в журнале "Аполлон" публикуются его первые стихи. Причем Мандельштам сразу же входит в число наиболее популярных поэтов. Вместе с Николаем Гумилевым и Анной Ахматовой он стал основателем нового направления - акмеизма.
В творчестве Мандельштама можно условно выделить три периода. Первый приходится на 1908- 1916 годы. Уже в ранних стихах поэта чувствуется интеллектуальная зрелость и тонкое описание юношеской психологии.
О. Мандельштам сравнивает жизнь с омутом, злым и вязким. Из многих его ранних стихотворений нам передается смутная тоска, "невыразимая печаль". Но все-таки главное в них - поиск цельности, попытка постичь окружающий мир, "из глубокой печали восстать".
Уже в раннем творчестве О. Мандельштама начинает обрисовываться главная тема его поэзии - тема общечеловеческой, не знающей границ культуры. В стихах Мандельштама мы не найдем прямого изображения важных общественных событий того времени. Каждый этап развития человечества оценивается поэтом как новая степень развития культуры. Это хорошо видно в его цикле "Петербургские строфы". Городской пейзаж Мандельштама насыщен историческим содержанием. Поэт создает также стихи о музыке и музыкантах, о творчестве. Обращение к этим темам позволяет поэту высказать идею единства мировой культуры.
На 1917-1928 годы приходится второй этап творчества О. Мандельштама. Исторические потрясения этого времени не могли не найти отклика в душе поэта. Стихотворение "Век" передает нам ощущение Мандельштамом трагизма истории.
Поэт считает, что в революции есть сила, способная принести ожидаемое, но для этого "снова в жертву, как ягненка, темя жизни принесли". В стихах Мандельштама появляются образы голодающего, "умирающего Петрополя", ночи, "темноты", человека, который "изучил науку расставаний". Свою неуверенность в успехе политических преобразований того времени поэт высказывает в стихотворении "Проспавши, братья, сумерки свободы!.."
Циклом стихов об Армении, написанным осенью 1930 года, открывается третий этап творческого пути О. Мандельштама. Эти стихотворения проникнуты чувством любви и братства разных народов, поэт говорит о том, что общечеловеческое выше национального. Как истинный художник, О. Мандельштам не мог закрыть глаза на происходящее вокруг него. И после трехлетнего перерыва (1926-1929) он возобновляет свой разговор с веком. Трагизм судьбы народа и страны вновь становится центральным в его творчестве. В стихах этого периода мы видим и смятение поэта, и его боль, и отчаяние от видений "грядущих казней". Иногда Мандельштаму становится "страшно, как во сне"-. Такие стихи, как "Старый Крым", "Квартира тиха как бумага", "За гремучую доблесть" и резкое стихотворение против "кремлевского горца" (Сталина) фактически стали приговором поэту. О. Мандельштам не мог молчать тогда, когда большинство молчало. В результате мы имеем потрясающе глубокий социально-психологический портрет Сталина.
Реакцией власти на эти стихотворения стал арест О. Мандельштама и его последующая ссылка. После отмены ссылки поэту разрешили поселиться где он захочет, кроме двенадцати крупнейших городов страны. Он едет в Воронеж. Там Мандельштам очень остро ощущает свою оторванность от привычного круга общения. Мы слышим его отчаяние: "Читателя! Советчика! Врага! На лестнице колючей разговора б!"
Фактически оказавшись отрезанным от внешнего мира, поэт начинает терять чувство реальности. В его творчестве появляются мотивы вины перед народом, перед Сталиным. Мандельштам пишет, что он входит в жизнь, "как в колхоз идет единоличник". Кажется, что он отказался от всего, чем дорожил ранее. В его душе произошел надлом. И в этом был самый большой ужас наказания поэта "полулюдьми", фактически лишившими его голоса.
Осип Эмильевич Мандельштам - создатель и виднейший поэт литературного течения - акмеизма, Друг Н. Гумилева и А. Ахматовой. Но несмотря на это, поэзия О. Мандельштама недостаточно хорошо известна широкому кругу читателей, а между тем в творчестве этого поэта как нельзя лучше отражено “дыхание времени”. Его стихи прямолинейны и правдивы, в них нет места цинизму, ханжеству, лести. Именно за нежелание уподобляться поэтам-конъюнктурщикам, воспевающим и прославляющим Советскую власть и лично товарища Сталина, он был обречен на непризнание и изгнание, на тяготы и лишения. Его жизнь трагична, а впрочем, нельзя назвать счастливой судьбу многих поэтов “серебряного века”.
Воспоминания Мандельштама о детских и юношеских годах сдержанны и строги, он избегал раскрывать себя, комментировать собственные поступки и стихи. Он был рано созревшим, точнее - прозревшим поэтом, и его поэтическую манеру отличают серьезность и строгость.
Первый сборник поэта вышел в 1913 г., его название “Камень”. Название - вполне в духе акмеизма. У Мандельштама камень являет собой как бы первичный строительный материал духовной культуры. В стихотворениях этой поры чувствовалось мастерство молодого поэта, умение владеть поэтическим словом, использовать широкие музыкальные возможности русского стиха. Первая половина 20-х гг. ознаменовалась для поэта подъемом творческой мысли и приливом вдохновения, однако эмоциональный фон этого подъема окрашен в темные тона и соединяется с чувством обреченности.
В стихах 20-х и 30-х гг. особое значение приобретает социальное начало, открытая авторская позиция. В 1929 г. он обращается к прозе, пишет книгу, получившую название “Четвертая проза”. Она невелика по объему, но в ней сполна выплеснулась та боль и презрение поэта к писателям-конъюнктурщикам (“членам МАССОЛИТа”), которые долгие годы разрывали душу Мандельштама. “Четвертая проза” дает представление о характере самого поэта - импульсивном, взрывном, неуживчивом Мандельштам очень легко наживал себе врагов, потому как всегда говорил, что думал, и своих суждений и оценок не таил. Практически все послереволюционные годы Мандельштам жил в тяжелейших условиях, а в 30-е гг. - в ожидании неминуемой смерти. Друзей и почитателей его таланта было немного, но они были. Осознание трагизма своей судьбы, видимо, укрепляло поэта, давало ему силы, придавало трагический, величественный пафос его новым творениям. Этот пафос заключается в противостоянии свободной поэтической личности своему веку - “веку-зверю”. Поэт не ощущал себя перед ним ничтожной, жалкой жертвой, он осознает себя равным.
Искренность Мандельштама граничила с самоубийством. В ноябре 1933 г. он написал резко сатирическое стихотворение о Сталине.
По свидетельству Е. Евтушенко: “Мандельштам был первым русским поэтом, написавшим стихи против начинавшегося в 30-е годы культа личности Сталина, за что и поплатился”. Как ни удивительно, приговор Мандельштаму был вынесен довольно мягкий. Люди в то время погибали и за гораздо меньшие “провинности”. Резолюция Сталина всего лишь гласила: “Изолировать, но сохранить”, - и Осип Мандельштам был отправлен в ссылку в далекий северный поселок Чердынь. После ссылки ему запретили проживать в двенадцати крупных городах России, Мандельштам был переведен в менее суровые условия - в Воронеж, где поэт влачил нищенское существование. Поэт попал в клетку, но он не был сломлен, он не был лишен внутренней свободы, которая поднимала его надо всем даже в заточении.
Стихи воронежского цикла долгое время оставались неопубликованными. Они не были, что называется, политическими, но даже “нейтральные” стихи воспринимались как вызов. Эти стихи проникнуты ощущением близкой гибели, иногда они звучат как заклинания, увы, безуспешные. После воронежской ссылки поэт еще год провел в окрестностях Москвы, пытаясь добиться разрешения жить в столице. Редакторы литературных журналов боялись даже разговаривать с ним. Он нищенствовал. Помогали друзья и знакомые.
В мае 1938г. Мандельштама снова арестовывают, приговаривают к пяти годам каторжных работ и отправляют на Дальний Восток, откуда он уже не вернется. Смерть настигла поэта в одном из пересыльных лагерей под Владивостоком 2 декабря 1938 г. В одном из последних стихотворений поэта есть такие строчки: уходят вдаль людских голов бугры,/Я уменьшаюсь там - меня уж не заметят,/Но в книгах ласковых и в играх детворы
24. Поэзия М.Цветаевой. Основные мотивы лирики. Анализ цикла стихов («Стихи о
Москве», «Стихи к Блоку», «Ахматовой» и др.)
Жизнь посылает некоторым поэтам такую судьбу, которая с первых же шагов сознательного бытия ставит их в самые благоприятные условия для развития природного дара. Такой яркой и трагической была судьба Марины Цветаевой, крупного и значительного поэта первой половины нашего века. Все в ее личности и в ее поэзии (для нее это нерасторжимое единство) резко выходило за рамки традиционных представлений, господствующих литературных вкусов. В этом была и сила, и самобытность ее поэтического слова. Со страстной убежденностью она утверждала провозглашенный ею еще в ранней юности жизненный принцип: быть только самой собой, ни в чем не зависеть ни от времени, ни от среды, и именно этот принцип обернулся в дальнейшем неразрешимыми противоречиями в трагической личной судьбе.
Моя любимая поэтесса М. Цветаева родилась в Москве 26 сентября 1892 года:
Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. Рябина стала символом судьбы, тоже полыхнувшей алым цветом ненадолго и горькой. Через всю жизнь пронесла М. Цветаева свою любовь к Москве, отчему дому. Она вобрала в себя мятежную натуру матери. Недаром самые проникновенные строки в ее прозе -- о Пугачеве, а в стихах -- о Родине. Ее поэзия вошла в культурный обиход, сделалась неотъемлемой частью нашей духовной жизни. Сколько цветаевских строчек, недавно еще неведомых и, казалось бы, навсегда угасших, мгновенно стали крылатыми!
Стихи были для М. Цветаевой почти единственным средством самовыражения. Она поверяла им все:
По тебе тоскует наша зала, -- Ты в тени ее видал едва -- По тебе тоскуют те слова, Что в тени тебе я не сказала. Слава накрыла Цветаеву подобно шквалу. Если Анну Ахматову сравнивали с Сапфо, то Цветаева была Никой Самофракийской. Но вместе с тем, с первых же ее шагов в литературе началась и трагедия М. Цветаевой. Трагедия одиночества и непризнанности. Уже в 1912 году выходит ее сборник стихов "Волшебный фонарь". Характерно обращение к читателю, которым открывался этот сборник:
Милый читатель! Смеясь как ребенок,
Весело встреть мой волшебный фонарь,
Искренний смех твой, да будет он звонок
И безотчетен, как встарь.
В "Волшебном фонаре" Марины Цветаевой мы видим зарисовки семейного быта, очерки милых лиц мамы, сестры, знакомых, есть пейзажи Москвы и Тарусы:
В небе -- вечер, в небе -- тучки, В зимнем сумраке бульвар. Наша девочка устала,
Улыбаться перестала. Держат маленькие ручки синий шар.
В этой книге впервые появилась у Марины Цветаевой тема любви. В 1913--1915 годы Цветаева создает свои "Юношеские стихи", которые никогда не издавались. Сейчас большинство произведений напечатано, но стихи рассыпаны по различным сборникам. Необходимо сказать, что "Юношеские стихи" полны жизнелюбия и крепкого нравственного здоровья. В них много солнца, воздуха, моря и юного счастья.
Что касается революции 1917 года, то ее понимание было сложным, противоречивым. Кровь, обильно проливаемая в гражданской войне, отторгала, отталкивала М. Цветаеву от революции:
Белый был -- красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был -- белый стал:
Смерть победила.
Это был плач, крик души поэтессы. В 1922 году вышла ее первая книга "Версты", состоящая из стихов, написанных в 1916 году. В "Верстах" воспета любовь к городу на Неве, в них много пространства, простора, дорог, ветра, быстро бегущих туч, солнца, лунных ночей.
В том же году Марина переезжает в Берлин, где она за два с половиной месяца написала около тридцати стихотворений. В ноябре 1925 года М. Цветаева уже в Париже, где прожила 14 лет. Во Франции она пишет свою "Поэму Лестницы" -- одно из самых острых, антибуржуазных произведений. Можно с уверенностью сказать, что "Поэма Лестницы" -- вершина эпического творчества поэтессы в парижский период. В 1939 году Цветаева возвращается в Россию, так как она хорошо знала, что найдет только здесь истинных почитателей ее огромного таланта. Но на родине ее ожидали нищета и непечатание, арестованы ее дочь Ариадна и муж Сергей Эфрон, которых она нежно любила.
Одним из последних произведений М. И. Цветаевой явилось стихотворение "Не умрешь, народ", которое достойно завершило ее творческий путь. Оно звучит как проклятие фашизму, прославляет бессмертие народов, борющихся за свою независимость.
Поэзия Марины Цветаевой вошла, ворвалась в наши дни. Наконец-то обрела она читателя -- огромного, как океан: народного читателя, какого при жизни ей так не хватало. Обрела навсегда.
В истории отечественной поэзии Марина Цветаева всегда будет занимать достойное место. И в то же время свое -- особое место. Подлинным новаторством поэтической речи явилось естественное воплощение в слове мятущегося в вечном поиске истины беспокойного духа этой зеленоглазой гордячки, "чернорабочей и белоручки".
Стихи М.И.Цветаевой о Москве. Чтение наизусть одного из них.
Марина Ивановна Цветаева родилась почти в самом центре Москвы. Дом в Трехпрудном переулке она любила словно родное существо. Московская тема появляется уже в ранних стихах поэтессы. Москва в ее первых сборниках - воплощение гармонии. В стихотворении «Домики старой Москвы» город предстает как символ минувшего. В нем - слова и понятия, передающие аромат старины: «вековые ворота», «деревянный забор», «потолки расписные», «домики с знаком породы». Цветаева ощущала себя прежде всего жителем Москвы:
- Москва! - какой огромный Странноприимный дом! Всяк на Руси бездомный, Мы все к тебе придем...
В ее лирике звучит своеобразие московской речи, включающей в себя ладный московский говор, диалектизмы приезжих мужиков, странников, богомольцев, юродивых, мастеровых.
В 1916 году Цветаева написала цикл «Стихи о Москве». Этот цикл можно назвать величальной песней Москве. Первое стихотворение «Облака - вокруг...» дневное, светлое, обращенное к дочери. Откуда-то с высоты - с Воробьевых гор или с Кремлевского холма - она показывает маленькой Але Москву и завещает этот «дивный» и «мирный град» дочери и ее будущим детям:
Облака - вокруг,
Купола - вокруг,
Надо всей Москвой -
Сколько хватит рук! -
Возношу тебя, бремя лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!
Будет твой черед:
Тоже - дочери
Передашь Москву
С нежной горечью...
А следом Марина Цветаева дарит Москву поэту Осипу Мандельштаму:
Из рук моих - нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат...
Вместе с ним она как бы обходит весь город: через Иверскую часовню на Красную площадь и через Спасские ворота - в Кремль, на свой любимый «пятисоборный несравненный круг» - Соборную площадь.
Третье стихотворение этого цикла - ночное. Трудно сказать, с каким реальным событием оно связано. Московские улицы в этом стихотворении другие, страшные:
Мимо ночных башен Площади нас мчат. Ох, как в ночи страшен Рев молодых солдат!
Поэт дорожит Москвой не только как родным городом, но и как святыней Отечества, столицей России.
23. Стилевые и жанровые особенности русской прозе начала 20 века. (Бунин, куприн, андреев)
И. А. Бунин.
Иван Алексеевич Бунин - поэт и прозаик, классик русской литературы, замечательный мастер изобразительного слова.
Бунин родился в 1870 году в Воронеже. Детство его прошло в имении отца Бутырки в Орловской губернии.
Первое стихотворение Бунин написал в возрасте восьми лет. В шестнадцать лет появилась его первая публикация в печати, а в 18 он начинает добывать хлеб литературным трудом.
В 20 становится автором первой, вышедшей в Орле, книги. Стихи сборника во многом были, правда, еще несовершенны, признания и известности молодому поэту не принесли. Но здесь обозначилась одна вызывающая к себе интерес тема - тема природы. Он становится признанным поэтом, достигнув мастерства прежде всего в пейзажной лирике. Одновременно со стихами Бунин писал и рассказы. Деревенская тема становится обычной в его ранней прозе. В его прозе - реалистические образы, типы людей, взятых из жизни. Популярность прозы Бунина началась с 1900 года, после публикации рассказа "Антоновские яблоки", созданного на самом близком писателю материале деревенской жизни. Читатель как бы всеми чувствами воспринимает раннюю осень, время сбора антоновских яблок. Запах антоновки и другие привычные автору с детства признаки сельской жизни означают торжество жизни, радости, красоты. Исчезновение этого запаха из дорогих его сердцу дворянских поместий символизирует неотвратимое их разорение, угасание. Яркое чувствование и описание природы перемежается воспоминаниями о близких людях, их повседневных заботах, быте на фоне прекрасных пейзажей. Писатель с сожалением расстается с прошлым, овеянным в его представлении романтической дымкой, поэзией дворянских гнезд, где царил запах антоновских яблок, запах России.
Самым значительным произведением дооктябрьского периода творчества Бунина стала повесть "Деревня" (19910 г.). Она отражает жизнь крестьян, судьбу деревенского люда в годы первой русской революции. Повесть была написана во время наибольшей близости Бунина и Горького. Сам автор пояснил, что здесь он стремился нарисовать, "кроме жизни деревни, и картины вообще всей русской жизни".
Повесть потрясла Горького, который услышал в ней "скрытый, заглушенный стон о родной земле, мучительный страх за нее". По его мнению, Бунин заставил "разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься над строгим вопросом - быть или не быть России".
Предреволюционная проза Бунина пронизана враждебным отношением к капиталистической цивилизации. Это особенно отчетливо выразилось в рассказе «Господин из Сан-Франциско» (1915). Но это повествование не только о частной судьбе - ведь герой не назван по имени. Все в рассказе обращено к трагическим судьбам мира, пораженного эпидемией бездуховности.
Автор сосредоточил внимание на фигуре главного героя, принадлежащего к избранному обществу, «от которого зависят все блага цивилизации: и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей». Свое отношение к этому обществу Бунин передал в тоне едкой иронии, исключающей сочувствие и сострадание. Писатель изобразил «высшее отребье человечества» с его цинизмом, низменностью вкусов и потребностей, призрачное благополучие которого держится на жестокости, богатстве и власти.
Писатель внешне спокойно, с объективностью ученого, воссоздает жизнь еще не старого миллионера в тот момент, когда «господин» решил отдохнуть и развлечься. Здесь и возникает картина полного ничтожества и безликости этого существа, которого автор не случайно лишил даже имени собственного. Американский миллионер утратил, а вернее, погубил в себе, а может, не открыл самое главное, самое ценное, что всегда поэтизировал Бунин, - человеческую ндивидуальность, самобытность, способность радоваться прекрасному и доброму. Не только главный герой, но люди, близкие к нему, лишены индивидуальных примет. Это маски, куклы, механические люди, которые живут в соответствии с нормами своего обезличенного круга.
Авторскую позицию, отношение к изображенному миру богатых проясняют образы другого плана. Это бушующий океан, в котором пышная многоярусная «Атлантида» выглядит игрушкой стихии. Безликим пассажирам противостоит солнечная Италия и ее люди, не утратившие радостного восприятия мира