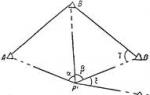Черты поэтики. Символизм: источники, основные черты поэтики и проблематики. Черты современной поэтики
Идея абсурда сложилась в XX веке. Но определение появилось благодаря изданию книги английского исследователя М. Эсслина «Театр абсурда» (1961). В основе литературного явления, которое получило название абсурдизма, театра абсурда или просто абсурда, лежит мысль о бессмысленности бытия. Такая бессмысленность лишает всякой значимости любое человеческое существование как его целостности, так и в каждом отдельном проявлении.
Термин «абсурд» (от лат. absurdus - нелепый, нестройный, глупый) означает нечто алогичное, нелепое, глупое, из ряда вон выходящее, противоречащее здравому смыслу. Абсурдным считается также выражение, которое внешне не является противоречивым, но из которого все-таки может быть выведено противоречие. В философии экзистенциализма понятие абсурд означает то, что не имеет и не может найти рационального объяснения. Абсурд - «способ изображения действительности, для которого характерны подчеркнутое нарушение причинно-следственных связей, гротескность, продиктованные стремлением продемонстрировать нелепость и бессмысленность человеческого существования».
В определенном смысле драма абсурда опирается на художественные открытия новой драмы в конце XIX - начале XX в., в первую очередь Чехова, благодаря которым действие было преобразовано в преимущественно внутреннее. В основе мира абсурда лежит сознательная игра с логикой, здравым смыслом. Переместившись из внешнего мира в пространство души, оно привело к взаимному перераспределению значимости его отдельных элементов (снижение роли сюжета, динамика, развития действия и т.д.). По-новому осмысленное действие - главная несущая конструкция любого абсурдистского произведения. Представлением о действии как о развертывании картины определяются остальные черты поэтики абсурдизма.
Принципы поэтики абсурда выделись в творчестве Л.Н. Андреева. Об абсурде в его драматургии говорили О. Вологина, М. Карякина, Л. Кен. Они утверждали, что человек в абсурдном мире андреевских пьес обнаруживает ощущение катастрофы цивилизации, конечность человека и человечества, образные переклички, языковые парадоксы, алогизмы.
Пьесы Л. Андреева - об абсурде, но не абсурдистские. Драматургия Л. Андреева представлена пьесами разной эстетической природы: модернистские, экспрессионистские, символистские, романтические, реалистические драмы. Объединяет их то, что «основным эстетическим принципом драматургии Л. Андреева становится соединение исторического и метафизического, - пишет А. Татаринов. - Во всех них, подчас достоверно воспроизводящих черты бытовой или конкретно-исторической реальности, всегда присутствует «сверхреальный» фон, тот подтекст (его можно назвать мифологическим), который способствует философичности драматургической формы, подчеркивает ее нацеленность на современное решение вечных вопросов».
Как отмечает Т. Злотникова «абсурд стал ведущим принципом жизневосприятия русского человека в последние два столетия и мощным источником художественных открытий, в которых русское искусство предвосхитило, а затем трансформировало западноевропейские тенденции». Вместо действия - фарсовость, клоунада, «персонажность», «кукольность», марионеточность - излюбленные качества искусства абсурда. В игровых пространствах пьес абсурд опрокидывает вечные ценности и привычные соотношения: разума и безумия, яви и сна, «верха» и «низа».
Художественное мифотворчество Андреева ориентировалось «на поэтизацию и постижение Хаоса как универсальной и непреодолимой формы человеческого бытия». Особенность художественного мира Андреева определяется рационализмом и интуицией как методом познания истины, вниманием к трансцендентным глубинам бытия.
Андреев - художник экзистенциального мироощущения, открывающий иррациональность и алогизм бытия. В центре внимания Андреева экзистенциональные проблемы смысла жизни и смерти, границ воли человека. Другой источник абсурда бытия у Андреева - бессознательное человека, человеческая природа, соответствующая хаосу. Содержание большинства произведений Л. Андреева - трагедия одинокой личности перед лицом абсурда.
Способы выявления абсурда можно увидеть на примере пьесы «Жизнь Человека», открывающей цикл «условных», «стилизованных» пьес. В данном произведении авторское сознание господствует в условно-обобщенной модели устройства. Образным эквивалентом жизни человека становится метафора «театр жизни», который можно назвать «театром абсурда».
Современные исследователи (В. Чирва, Л. Иезуитова, Ю. Бабичева, В. Татаринов, В. Заманская и др.) приходят к выводу, что «Жизнь Человека» была подготовлена предшествующим творчеством и определила направление дальнейших эстетических исканий Л. Андреева. Драма открывает цикл пьес («Царь Голод», «Анатэма»), в котором реализуются устремления Л. Андреева к «условному» театру, «синтезу нового типа», «стилизованным произведениям, где взято самое общее, квинтэссенция, где детали не подавляют главного, где общее не утопает в частностях».
Исследователь Чубракова З. в работе «Открытие абсурда в драмах Л. Андреева «Жизнь Человека» и «Собачий вальс» отмечает, что Андреев настаивает на театральной условности, формулирует принципы актерской техники «отстранения». В драме господствует видение «извне»: о завершенном событии (жизни человека) повествует в Прологе Некто в сером, затем событие «представляется» в разыгрываемых актерами «картинах» (а не в традиционном для драмы «действии»). Это прием «очуждения», закрепившийся позднее в художественной системе экспрессионизма в эффекте «смотрения», визуализации. Автор оголяет метафизические проблемы, рассчитывает на интеллектуальное соучастие воспринимающих.
Основным приемом воплощения становится формирование игрового пространства, а художественной формой - мистерия (действо, воссоздающее игру трансцендентных сил через таинство рождения из смерти, но не приоткрывающее завесу мистической глубины), вечно разыгрываемая по одному и тому же сценарию. Средства выражения абсурда - алогизм, гротеск, парадокс, случай. Андреев использует прием «театра в театре». Повторяющаяся череда рождений и умираний, творящаяся в земной жизни, - часть вселенского космического действа.
Андреев по-своему интерпретирует понятия «философии жизни». Человек обречен на одиночество и смерть, «заброшен» в хаос неразумного и враждебного мира. Идейно-художественную константу драмы обнаруживает оппозиция «жизнь - нежизнь». Смерть - феномен проявления жизни: живет только то, что умирает. Эта мысль «подается» в пьесе Андреева прозрачной аллегорией: горение свечи - исполнение жизни через смерть. О том, что жизнь человека быстротечна и «заряжена» смертью, сообщает в Прологе Некто, об этом знают таинственные Старухи, присутствующие в ситуациях рождения и смерти человека.
Закон осуществления жизни через смерть воспринимается им как трагедия человеческого удела. Бесследное исчезновение человека в небытии лишает смысла его существование. Андреев акцентирует противоборство этих бытийных начал, дает Человеку понять неразумность миропорядка.
Жизнь человека - необходимое условие вечной мистерии, поединка бытия и небытия, света и тьмы. Андреев рассматривает мистерию бытия с позиций земной человеческой логики и требований «живой жизни», его пьеса против абсурда, который не принимает человеческий разум. Приемы обобщения и универсализации позволяют писателю представить образ мироустройства, свести до формулы метафизические проблемы (метафизический абсурд).
Авторское неприятие открывшейся неразумности бытия проявляется в драматизме переживания трагизма человеческого существования и определяет экспрессионистическую поэтику пьесы: поэтику контрастов и диссонансов, заострение парадоксального единства антиномий на всех уровнях художественной структуры.
Синтез языка живописи и театра - содержательный прием создания образа алогичного мира. Пролог, обращение к зрителям, «обрамление» структурируют пространство и создают эффект «театра в театре», акцентируют условность и игровую основу изображаемого. Картина «Несчастье Человека» (особенно молитвы матери и отца) представлена как трагедия. Картина «Бал у Человека», раскрывающая низменные страсти, зависть и лживость гостей, рисуется Андреевым как фарс. Образы музыкантов, каждый из которых похож на свой инструмент, гостей - безжизненных «деревянных кукол» - шаржированы, выписаны с резкостью и лаконичностью гравюры. Новый поворот в освоении абсурда бытия предстает в «Черных масках»: в пьесе даны варианты существования человека во вселенском хаосе, который проникает в человеческую душу.
Таким образом, Андреев оказался одним из родоначальников литературы абсурда XX в. Ирония, парадокс, гротеск играли в драматургии все большую структурообразующую и концептуальную роль. В творчестве Л. Андреева абсурд - жизневосприятие, смысловой и структурный принцип его философско-эстетической системы. В «Жизни Человека» Андреев находил смысл в противостоянии реальностью духовной жизни человека смерти, тьме и пустоте, автор давал взбунтовавшемуся против абсурда герою условное превосходство над непобедимой властью трансцендентных сил.
Новое огромное историческое событие, необходимость изображения проверили и развили возможности поэтики Твардовского предыдущих периодов. В частности, подтвердились возможности сочетания сюжетности лирического стихотворения и его психологического богатства; прозаизации и высокого героического пафоса, краткости и обстоятельности «бесценных подробностей». Основные отличия от поэтики предыдущего периода определились скачкообразным расширением «площадки действительности» и усилением ее конфликтности, напряженности всех ситуаций, судеб и концентрации всего этого вокруг основной темы - конфликта, темы и пафоса битвы за жизнь на земле человека с нелюдьми. Отсюда и увеличение разнообразия всех художественных средств и вместе с тем еще большая сосредоточенность в стержневом направлении.
Отсюда соответственно еще более смелое совмещение и одном авторском высказывании, иногда даже отдельной строфе, строчке очень разных и даже контрастных фактов, переживаний, лексических пластов, интонационных движений, но попрежнему в определенных рамках ясной общей направленности, без игры отстранениями, без гротеска, хотя с еще более широким применением условных и символических приемов, еще более смелым сочетанием конкретности и обобщенности. Небывалая резкость переходов, совмещений далекого и близкого, большого и малого, событийности и психологического анализа. Поэт движется в главной стремнине потока, жизни, события, в самой густой его гуще; и ведет при этом на ходу, в спешке, но вместе с тем с дотошной внимательностью, дневники эпохи и самого себя, записную книжку. И непосредственность дневниковой записи перерастает в грандиозное обобщение, вплоть до огромных исторических символов. И, таким образом, рождается новая символическая конкретность стиха и прозы.
Одной из внешних примет расширения «площадки действительности» и пространства поэзии явилось увеличение жанрового разнообразия. «Я писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, статьи, заметки - все». К этому списку, естественно, добавились обе поэмы. Контрастно увеличилась роль и наиболее крупных повествовательных форм, к которым, кроме поэм, нужно отнести и ряд больших повествовательных стихотворений размером от более ста до почти трехсот строк, - и самых кратких стихотворений, по 6-8 строчек, как бы фрагментарных, отрывочных записей. Сохранились все жанры работы Твардовского предыдущих периодов и появились новые. Например, своеобразные очерки-корреспонденции в стихах, иногда непосредственно выраставшие из газетной заметки или прозаического очерка или параллельные с ними - главным образом описания отдельных героических поступков, подвигов конкретных героев войны. Ряд стихов с преобладанием ораторской интонации, в наибольшей мере перекликавшихся с традиционным жанром «оды»; эти военные «оды» включали в себя и опыт песенных, разговорных жанров. Много стихов-«посланий» и «писем». Есть стихи, совмещавшие в себе признаки «оды», «послания» и резко выраженные песенные элементы - таково сильное стихотворение «К партизанам Смоленщины» - лучший образец ораторской, хотя с элементами разговорной и напевной интонаций, лирики Твардовского. Часто «ода» сочеталась и с признаками «медитативной элегии» («Возмездие»). И развился далее жанр «стихов из записной книжки».
С точки зрения степени прямой активности авторского «я», по-прежнему занимают большое место повествовательно-сюжетные стихи, но гораздо большее развитие, чем в предыдущих периодах, получают смешанные лирико-повествовательные и повествовательно-лирические (с элементами также драматизации). «Лирика другого человека» представлена меньшим количеством специально ей посвященных стихотворений, но широко развита как лирические проявления персонажей поэм и стихотворений. Среди собственно повествовательно-сюжетных стихов теперь выделяется жанр, который сам поэт обозначил термином «баллада». Это, в сущности, аналог рассказов в стихах 30-х годов сходной или несколько большей размерности (например, «Баллада об отречении»- 152 строки, «Баллада о Москве» - 192 строки, «Баллада о товарище» - 232 строки), но с более драматическим, подчас патетическим и трагическим содержанием. Кроме того, есть стихотворения, так и обозначенные, как рассказ в стихах, например, «Рассказ старика», «Рассказ танкиста». Такие повествовательные стихи, иногда имеющие характер военной корреспонденции-очерка о том или ином событии, подвиге, происшествии, в сущности мало отличаются от «баллад» Твардовского этого времени, но имеют элементы сказовости или еще более насыщены бытовыми подробностями. А среди стихов с наиболее активным проявлением лиризма также возникает новый жанр - короткие размышления в стихах, почти афористические, например, известное шестистрочное стихотворение «Война, жесточе нету слова» (1944), - жанр, тесно связанный с жанром «стихов из записной книжки».
Все авторы работ о Твардовском подчеркивают усиление активности авторского «я», лирического начала в творчестве поэтов военного времени - и Твардовского в том числе. С этим можно согласиться, но со сделанной выше оговоркой о том, что вместе с тем усилилось и эпическое начало, а усиление лирической активности у Твардовского не означало, что она только теперь у него возникла. Более того. В самом прямом авторском высказывании преобладает высказывание не прямо о себе, а о себе в связи с чем-то или кем-то другим. Все биографическое и автобиографическое в стихах и прозе, с одной стороны, более непосредственно проявляется, а с другой стороны, - и это несколько парадоксально - даже больше отодвигается, ибо «дневниковость» подчинена колоссальному дневнику коллективного участника войны.
В поэмах прямое высказывание автора выходит на авансцену, но роль своей личности автор везде ограничивает положением комментатора, свидетеля и спутника. Только в прозе этого периода автор выступает как участник описываемого события, но не как действующее лицо, в отличие, например, от прозы Симонова.
Основное отличие авторского «я» этого периода от «я» предыдущих этапов пути Твардовского заключается в самом расширении субъективности, кругозора личного начала, его многоголосия, в появлении новых тематических мотивов, переживаний, непосредственно связанных с войной и с усилением чувства ответственности личности перед лицом врага. В связи с этим несколько меняется и структура лирического высказывания. Оно теперь обращено к более конкретному собеседнику или слушателю; часто «я» непосредственно беседует со своими персонажами, иногда даже обращается к конкретным адресатам. Появляется в числе этих собеседников и сам автор, возникает разговор с самим собой, хотя он предпочитает говорить о себе со стороны. Вообще в каждом стихотворении и в обеих поэмах явно или скрыто происходит некий диалог - «я» и «ты», или «я» и «вы» (эти «вы» часто имеют более конкретные определения - например, «друзья» и т.д.), иногда «мы» и «вы», «мы» и «ты». И этот «ты» часто представляет собой персонаж - индивидуальный или коллективный,- связанный с авторским «я» и некой обратной связью. Это - соотношение, которое было редким в стихах Твардовского предыдущих периодов, теперь становится самым обычным. Товарищество становится принципом изображения. И отсюда в самой лексике во много раз учащается употребление личных и притяжательных местоимений, по сравнению со всем предыдущим творчеством, хотя в указанных рамках, с указанной объективностью самой субъективности.
С этим многообразием и единством разных «я», «ты», «мы», «вы», «они» связано дальнейшее развитие интонационного многоголосия. Как и раньше, в стихах почти всех жанров преобладает естественная разговорная речь, даже в ораторских, одических. Но в этом разговоре резко усилились непосредственный пафос обращения, страстного высказывания, любви и гнева, подчас настоящей ораторской эмфазы, подъема. Довольно часто эта эмфаза переходит в простую риторику. Но в лучших стихах - и во всем «Василии Теркине» - ораторский пафос и страстное высказывание вырастают из непринужденного, без всякой внешней приподнятости, разговора о самом важном, волнующем с живыми собеседниками, на равных. И в этой разговорности обычно сохраняются элементы напевности, продолжается та слитная напевно-разговорная интонация, которую с таким блеском и глубиной разработал Твардовский в стихах предыдущего периода и в «Стране Муравии». Появляются и стихи с новой предельной разговорностью, без всякой напевности, с некой, как бы сбивчивой затрудненной речью, но и в этих стихах не возвращается ультрапрозаизация; сохраняется определенное мелодическое начало подлинно поэтического разговора.
Точкой отсчета в истории русского символизма считается 1892 году
когда вышла статья Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», в которой отмечалось, что стало мало хороших реалистических текстов, но на основе культуры 19 века возникает новое искусство
три черты новой литературы
мистическое содержание, М-ский объяснял всплеск мистицизма тем, что наука не может ответить на те вопросы, которые раньше были в ведении религии.
расширение художественной впечателительности (импрессионизм)
символы (как многозначная аллегоризация) Цитирует Гете: «чем несоизмеримее и для ума недостижимее данное поэтическое произведение, тем оно прекраснее»
В этом же году в издательстве А. С. Суворина вышел второй поэтический сборник Д. С. Мережковского с программным для зарождавшегося модернизма названием «Символы. Песни и поэмы» Этот сборник сыграл роль только благодаря своему названи, потому что стихоторвения в нем вполне классические по форме, из своей собственной программы Мережковский воплотил разве что мистическое содержание.
Между теоретической программой и художественной практикой может быть огромная дистанция.
Источники символизма
Немецкий романтизм
Французский символизм
Идеи Ницше и Вагнера
Тютчев и Фет
Немецкий романтизм Представление о мистической природе поэзии. Новалис (Фрид фон Гарденберг): «Чувство поэзии имеет много общего с чувством мистического. Оно представляет непредставимое, зрит незримое и т.д.» «Поэт постигает природу лучше, нежели разум ученого»
Французский символизм. Перекличка названий, преемственность, которую многие символисты осознавали, признавали и ставили себе в заслугу. Но следует отметить, что французский символизм был чисто художественным принципом. Внутренний мир героя противопоставлялся внутреннему миру и художественным вкусам обывателей. Французам потребовался символ, потому что он – в отличие от традиционных тропов – мог адекватно отразить сложную душу художника. В основе символического искусства Франции лежит представление о том, что весь мир пронизывает система соответствий, у руских символистов соответствия были на другом уровне.
О связи с французским символизмом.
Сначала во Франции существовало объединение Парнас, для произведений парнасцев был характерен скульптурный, четкий стиль. Затем, по принципу отталкивания, сформировался символизм с его музыкальностью и расплывчатостью образов. Русская поэзия впитала оба эти направления одновременно, причем в России изначально не было аналога Парнасу, поэты конца 19 века, которые стремились к античной завершенности и строгости, остались незамеченными. Парнасская традиция была воспринята в эпоху постсимволизма.
Для многих русских поэтов эти различия роли не играли, французские символисты и парнасцы как бы объединялись в единое целое по тематическому принципу . Или, например, В. Брюсов разделяет два направления французской поэзии, но продолжает их одновременно: символизм в сборниках «Русские символисты», а парнасскую линию в цикле «Криптомерии», в которых очень чувствуется влияние Леконта де Лилля. В сборнике «Chefs d’oeuvre» присутствует авторский подзаголовок «сборник несимволистских стихотворений», а в сборнике «Мe eum esse» соответственно «Сборник символистских стихотворений»
Ницше и Вагнер. В Германии тоже был симыволизм, идея музыкальности получила дальнейшее развитие благодаря идеям Р. Вагнера и Фр. Ницше. Вагнер в статье «Искусство и революция» предполагал, что искусство в своей высшей форме, то есть музыка, станет основой итоговой революции. Произойдет преображение человека и мир станет существовать по законам красоты. В результате, музыка стала пониматься не просто как высшее искусство, а как первооснова искусства вообще и как основа мира.
Про Ницше говорили на прошлой лекции, кто пропустил - сам виноват.
В России были популярны стихи французских символистов, а не немецких, но Вагнер и Ницше пользовались бешеной популярностью
Тютчев и Фет. Поэты чистого искусства, внимание к душевной жизни. Основной идеей, которую переняли символисты, была идея невыразимости.
Тютчев SILENTIUM!
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои -
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи,-
Любуйся ими - и молчи.
Как мошки зарею,
Крылатые звуки толпятся;
С любимой мечтою
Не хочется сердцу расстаться.
Но цвет вдохновенья
Печален средь буднишних терний;
Былое стремленье
Далеко, как отблеск вечерний.
Но память былого
Всё крадется в сердце тревожно...
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!
Черты символизма:
Розанов в порядке критики: «Молчание истории, неведенье природы» (о декадентах)
Здесь следует отметить, что природные образы все-таки появляются в стихотворениях поэтов символистов, но они не отличаются точностью и образностью. Скорее это условное обозначение. Кроме того, природа в стихотворениях старших символистов – в отличие от XIX в – знак смерти, небытия, растворения в мире
романтический культ искусства Автономность, самоценность искусства, эстетическое творчество приравнивалось к религиозному откровению и ставилось выше научного познания
обновление искусства слова: импрессионизм, музыкальность, эксперименты с формой стиха
Новое понимание красоты: панэстетизм: все в мире рассматривалось в эстетических категориях. (Шопенгауэр) «Гармония сфер и поэзия ужаса – это два полюса красоты (статья Бальмонта)
Демонизм является результатом крайней субъективности: если действительность – создание моей мысли (мир как воля и представление), то и все нравственные нормы лишены объективного значения
Никого и ни в чем не стыжусь,-Я один, безнадежно один,
Различали зло разного уровня, предпочтительнее было глобальное зло – вселенская сила, которая очищает мир от бытового зла.
Демонизм и одиночество вели к пессимизму, упадническим настроениям, теме смерти, мотивам самоубийства. Декаданс
Личность – самоцель, а не орудие общественной борьбы, вниманеи к человеку.
Главной чертой символизма была установка на суггестивность: то есть ожидание от текста скрытого смысла.
Мережковский: В Акрополе... до наших дней сохранились немногие следы барельефа, изображающего самую обыденную и, по-видимому, незначительную сцену: нагие стройные юноши ведут молодых коней, и спокойно и радостно мускулистыми руками они укрощают их. Все это исполнено с большим реализмом, если хотите, даже натурализмом, – знанием человеческого тела и природы. Но ведь едва ли не больший натурализм – в египетских фресках. И однако они совсем иначе действуют на зрителя. Вы смотрите на них как на любопытный этнографический документ так же, как на страницу современного экспериментального романа. Что-то совсем другое привлекает вас к барельефу Парфенона. Вы чувствуете в нем веяние идеальной человеческой культуры, символ свободного эллинского духа. Человек укрощает зверя. Это не только сцена из будничной жизни, но вместе с тем – целое откровение божественной стороны нашего духа. Вот почему такое неистребимое величие, такое спокойствие и полнота жизни в искалеченном обломке мрамора, над которым пролетели тысячелетия.
Вообще поэтика слов-намеков не была чем-то революционно новым, а восходила к античному учению о художественном слове.
Но в начале ХХ века к традиционным поэтическим тропам добавляется антиэмфаза – расширение значения, размывание его, отсюда символ как предельно многозначное слово.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 29»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Спец. вопрос на тему
«Общая характеристика французской литературы конца XIX – начала XX в. Символизм. Оригинальные черты поэтики А. Рембо»
Составлен учителем
русского языка и литературы
МАОУ «СОШ №29» городского
округа г.Стерлитамак РБ
Алексеенко М.В.
Стерлитамак
Символизм (от франц.
simbolism
, от греч.
simbolon
- знак, символ) - художественное направление, появившееся во Франции в конце 60 - начале 70-х гг. 19 в. (первоначально в литературе, а затем и в других видах искусства - изобразительном, музыкальном, театральном) и вскоре включившее в себя иные явления культуры - философию, религию, мифологию. Излюбленными темами, к которым обращались символисты, являлись смерть, любовь, страдание, ожидание каких-либо событий. Среди сюжетов преобладали сцены евангельской истории, полумифические-полуисторические события средневековья, античная мифология.
Основы эстетики символизма заложили А. Рембо, С. Малларме, П. Верлен, К. Гамсун, М. Метерлинк, Э. Верхарн, О. Уайльд, Г. Ибсен, Р. Рильке и др.
Символизм получил широкое распространение во многих странах Западной Европы (Бельгии, Германии, Норвегии).
Эcтeтикa cимвoлизмa oбpaщaeтcя к cфepe дyxa, «внyтpeннeгo видeния». В основе символистской концепции лежит постулат о наличии за миром видимых вещей истинного, реального мира, который наш мир явлений лишь смутно отражает. Иcкyccтвo paccмaтpивaeтcя кaк cpeдcтвo дyxoвнoгo пoзнaния и пpeoбpaжeния миpa. Момент прозрения, возникающий во время творческого акта - вот то единственное, что может приподнять завесу над иллюзорным миром обыденных вещей.
C
тихотворения П.Верлена
Поэтическое искусство
(1874) и сборник А.Рембо
Озарения
(1872– 1873, особенно сонет
Гласные
, 1872) провозгласили своим манифестом
. Оба поэта испытали влияние Бодлера, но воплотилось оно по-разному. Верлен, поэт-импрессионист по преимуществу, стремился к «искусному опрощению» (Г.К.Косиков) поэтического языка. Между «душой» и «природой» в его пейзажной лирике (сборник
Романсы без слов
, 1874) устанавливается отношения не параллелизма, но тождества. В свои стихи Верлен ввел жаргон, просторечия, провинциализмы, фольклорные архаизмы и даже языковые неправильности. Именно он предварил символистский верлибр, который открыл А.Рембо. Он призывал дать волю ничем не сдерживаемой игре воображения, старался достичь состояния «ясновидения» путем «расстройства всех своих чувств». Именно он обосновал возможность «темной», суггестивной поэзии, предвосхищая творчество С.Малларме.
История символизма как оформленного поэтического направления начинается в 1880, когда С.Малларме открыл у себя дома литературный салон, где собирались молодые поэты – Р.Гиль (1862–1925), Г.Кан (1859–1936), А.Ф.Ж.де Ренье (1864–1936), Франсис Вьеле-Гриффен (1864–1937) и др. В 1886 программной для символистов акцией стала публикация восьми Сонетов к Вагнеру (Верлен, Малларме, Гиль, С.Ф.Мерриль, Ш.Морис, Ш.Винье, Т.де Визева, Э.Дюжарден). В статье Литературный манифест. Символизм (1886), программном документе движения, Ж.Мореас (1856–1910) пишет, что символистская поэзия пытается «одеть Идею в осязаемую формулу». В это же время выходят первые поэтические сборники, ориентированные на символистскую поэтику: Кантилены (1886) Ж.Мореаса; Успокоение и Ландшафты (1886, 1887) А.де Ренье и др. В кон. 1880-х происходит подъем символизма (Утехи (1889) Ф.Вьеле-Гриффена; Стихотворения в старинном и рыцарском духе (1890) А.де Ренье). После 1891 символизм входит в моду, это размывает границы сообщества. Эзотеризм и мистицизм некоторых поэтов (Великие посвященные (1889) Э.Шюре) вызывают реакцию со стороны других. (Французские баллады (1896) П.Фора, 1872–1960; Ясность жизни (1897) Вьелле-Гриффена; От утреннего Благовеста до вечернего (1898) Ф.Жамма, 1868–1938), стремящихся к непосредственности и искренности в поэзии. В стилизациях П.Луи дает знать о себе эстетизм (Астарта , 1893; Песни Билитис , 1894); Р.де Гурмон (1858–1915) играет индивидуалиста и имморалиста (Иероглифы , 1894; Дурные молитвы , 1900). На рубеже 19–20 вв. символистское движение распадается на отдельные школы-однодневки («натюризм», «синтетизм», «пароксизм», «эзотеризм», «гуманизм» и т.п.). Отдельным явлением в драматургии кон. 19 в. стала романтическая пьеса Э.Ростана (1868–1918) Сирано де Бержерак (1897).
Символизм, как мировоззрение проявивший себя сначала в лирике, быстро проник в драматургию. Здесь он, как и в литературе кон. 19 в. в целом, противостоял натурализму и позитивистскому мировидению. Наиболее востребован постановщиками был бельгийский драматург , его пьесы преобразили театральный репертуар 1890-х (Слепые , 1890; Пеллеас и Мелисанда , 1893; Там, внутри , 1895). Традиции символизма отчасти были продолжены в журнале «Ля Фаланж» (1906–1914) и «Вер э проз» (1905–1914) и во многом определил прозаические эксперименты нач. 20 в., повлиял на формальные поиски поэтов модернистских направлений. Очевидно влияние их на творчество П.Валери и П.Клоделя.
Становление символизма во Франции – стране, в которой зародилось и расцвело символистское движение, – связано с именами крупнейших французских поэтов: , С.Малларме, П.Верлена, А.Рембо. Предтеча символизма во Франции – Ш.Бодлер, выпустивший в 1857 книгу Цветы зла . В поисках путей к «несказанному» многими символистами была подхвачена мысль Бодлера о «соответствиях» между цветами, запахами и звуками. Близость различных переживаний должна, по мнению символистов, выразиться в символе. Девизом символистских исканий стал сонет Бодлера Соответствия со знаменитой фразой: Перекликаются звук, запах, форма, цвет . Теория Бодлера была позже проиллюстрирована сонетом А.Рембо Гласные :
« А » черный, белый « Е » , « И » красный, « У » зеленый,
« О » голубой – цвета причудливой загадки…
В поэзии гениального юноши А.Рембо, впервые употребившего верлибр (свободный стих), воплощалась взятая символистами на вооружение идея отказа от «красноречия», нахождения точки скрещения между поэзией и прозой. Вторгаясь в любые, самые непоэтические сферы жизни, Рембо достигал эффекта «естественной сверхъестественности» в изображении реальности.
Вопрос о субъекте поэтического дискурса, т. е. того „я“, которое мы встречаем в ясновидческой поэзии Рембо, оказывается не таким простым. Поэтический субъект - „переживающая и созерцающая экзистенция“ - является результатом разрушения эго поэта, его интеллектуальной и эмоциональной конституции. В идеале мы должны слышать голос „мировой души“, а не индивида („поэт в ответе за все человечество, даже за животных“ 7 ). Потому поэтический субъект м ожет носить любые маски, ассоциироваться с любой эпохой, любым народом. Для него нет ограничений ни во времени, ни в простран стве. Если в начале главы „Дурная кровь“ („Сезон в аду“), когда Рембо говорит о своих галльских предках, мы можем предполагать автобиографическую основу, то уже в следующих пассажах это невозможно:
Должно быть, простым мужиком добрался я до Святой земли; из головы нейдут дороги средь швабских долин, виды Византии... - Я, прокаженный, сижу на груде черепков, в зарослях крапивы... - А столетия спустя, солдат-наемник, я, должно быть, ночевал под небом Германии.
Да, вот еще что: я отплясываю на шабаше посреди багровой поляны, вместе со старухами и детьми 8 .
„Субъект без границ“, возникающий в результате трансформации индивида в поэта-ясновидца, делает невозможным трактовку ясновидческой поэзии как исповедальной лирики. Ход ясновидческого эксперимента Рембо отражает движение к деперсонализации поэтического дикта. Уже при обсуждении „Пьяного корабля“ Рембо резко возражал против традиционной персонификации, предложенной Теодором де Банвилем („я - пьяный корабль, который...“). Посылая „Украденное сердце“ Изамбару, Рембо помечает в письме: „Этим стихотворением я не хочу ничего сказать“. В „Озарениях“ за поэтическим дискурсом невозможно разглядеть говорящего. Даже чувства теряют здесь свои привычные личностные очертания. В таких поэмах, как „Благочестие“ или „Смятение“, мы, вопреки заглавию, не найдем даже фиксации определенного душевного состояния. Ни страх, ни смятение, ни восторг больше не имеют знакомых контуров. Перед нами интенсивность переживания, эмоциональное поле, источник которого остается неизвестным - внеличностным. Квинтэссенция такого деперсонализированного вещания духовидца - короткое стихотворение в прозе „Отъезд“, целиком построенное на безличных конструкциях:
Довольно видено. Виденья являлись во всех обличьях.
Довольно слышано. Гул городов по вечерам, под солнцем, - вечно.
Довольно познано. Все остановки жизни. О, зрелища и звуки!
Теперь отъезд к иным шумам и ощущеньям!
По мере того как в Рембо нарастает разочарование ясновидческим экспериментом, меняется и поэтический дискурс. Постепенно в последних стихотворениях Рембо снова все ощутимее звучит исповедальный тон - тоска, ужас, потерянность, ожесточенность. „Тем хуже для куска дерева, если он поймет, что он скрипка“. „Стыд“, „Как волк хрипит под кустом“, „Сезон в аду“, - это уже не голос „мировой души“, не „фиксация головокружений“, но режущий ухо надтреснутый, страдальческий голос сломанного инструмента, бывшего некогда „скрипкой“. Пожалуй, самым страшным стихотворением этого времени стал „Стыд“ - свидетельство того, до какой степени Рембо был несчастен:
Этого мозга пока
Скальпелем не искромсали,
Не ковырялась рука
В белом, дымящемся сале...
Можно предположить, что такое развитие поэтического субъекта, которое предлагалось в программе ясновидения, могло вызвать серьезный кризис эго у Рембо и потребность „возвращения к себе“, самоанализа, что и было осуществлено в „Сезоне в аду“.
Одновременно с появлением „субъекта без границ“ происходит процесс деформации, разрушения реальности. В „Сезоне в аду“ Рембо вкладывает в уста „неразумной девы“ такие слова: „Сколько ночей провела я без сна, склонившись над этим родным, погруженным в дремоту телом и раздумывая, почему он так стремится бежать от действительности“ 9 . Настойчивость этого желания объяснима лишь страстью к „неизвестному“ и ощущением тесноты, недостаточности реальности.
Уже Бодлер говорил о том, что первое действие творческой фантазии - разделение, расчленение реальности. Для следующего шага - конструкции, монтажа образа мира - важна идея „пейзажа души“ Верлена, „внутреннего ландшафта“. Дезинтеграция и субъективный
монтаж - принципы построения поэтической модели мира Рембо выводят в XX век, к модернистскому поиску.
Разрушенная, децентрированная реальность оказывается хаотическим скоплением знаков, которое постепенно становится в глазах самого поэта печальным знаком поражения - свидетельством недостаточности реальности и недостижимости „неизвестного“.
Отчуждение, разрыв привычных связей - пространственных, временных, причинных - сопровождается складыванием их в причудливую мозаику, подчиненную субъективному произволу. Озеро вздымается вверх, над горами высится море, собор падает вниз, фортепиано устанавливается в Альпах: „Я свыкся с простейшими из нав аждений: явственно видел мечеть на месте завода, школу барабанщиков, руководимую ангелами, шарабаны на небесных дорогах, салоны в озерной глубине...“ 10 . Все пейзажи, звезды, цветы, дети, мосты, здания, ангелы составляются в головокружительный калейдоскоп, „парадиз неистового лицедейства“.
Действительность превращается в чувственно воспринимаемую неизвестность; заново создавая облик мира, творческий субъект утверждает свою безграничную свободу: „Я один подобрал ключ к этому дикому параду-алле“ 11 . Фантазия агрессивна, она разрушает, искажает привычную картину реальности. Творческий акт, по сути, оказывается актом насилия - и по отношению к творцу, уродующему себя на манер компрачикосов, и по отношению к миру. Не случайно в текстах Рембо так часты образы жестокости, изувеченного, искале ченного тела („Украденное сердце“, „Стыд“) - даже в белоснежном теле Прекрасного Создания зияют страшные кровавые раны.
Поэзия, которая создается подобным образом, требует нового языка, способного запечатлеть „то, что лишь мерещится живущим“ - чувственную ирреальность видения. По определению Рембо, данному в письмах о ясновидении, это должен быть язык, „на котором одна душа разговаривает с другой, язык, вобравший в себя все - запах, звук, цвет, когда одна мысль объединяется с другой - и устремляется вперед“ 13 .
Этот язык, по представлениям Рембо, должен соответствовать задачам коммуникации высшего типа, более напоминающей телепатическое общение. Очевидно, идеал, к которому следует стремиться ясновидцу, - передача мыслеформ, без опосредования мысли в слове. Однако достижение этого идеала сразу невозможно - если поэт хочет быть понятым, он вынужден использовать слова. Миссия поэта
как „похитителя огня“ - работать со словом, реформировать его, максимально приближая речевое общение к телепатическому, - это Рембо называет Великим Деланием, алхимией слова.
„Все началось с поисков. Я записывал голоса безмолвия и ночи, пытался выразить невыразимое. Запечатлевал ход головокружений...“ 14 .
Для Рембо идея ясновидческой поэзии, ее дух, пафос и новый язык приходят в столкновение с традиционной эстетикой - „старой формой“. Приверженность к „старой форме“, к канонам ритори ческой культуры отличает не только старших романтиков (о Ламартине Рембо прямо заявляет, что его ясновидческий дар был удушен старой формой). Младшие романтики, вплотную подошедшие к ясновидению, не смогли преодолеть инерцию и в целом остались в рамках канона; и даже Бодлер - „первый ясновидец“, „король поэтов“ - для Рембо все же „слишком художник“ 15 , ибо он видел многое, но не всегда умел выразить увиденное, будучи стесненным устаревшими правилами, эстетической системой, неадекватной его дарованию. Для Рембо очевидно - „исследование неведомого требует поиска новых форм“ 16 .
„Точка отправления Рембо-поэта настолько помечена традици ей, что, кажется, не обещает стремительного движения“ 17 , - пишет Л. Г. Андреев о первых стихотворениях с их ощутимой зависимостью от классицистских канонов и романтической традиции. Однако усвоенные Рембо литературные образцы быстро подвергаются переработке и превращаются в совершенно иную субстанцию.
В школе Рембо основательно изучил классическое наследие, пи сал латинские стихи. Вскоре в его текстах античность предстает в гротескном и шутовском виде - античные боги сбрасываются с пьедестала, красивейшие мифы (рождение Афродиты из морской Пены) превращаются в апофеоз безобразного. Атака направлена, впрочем, не столько против античного мира, сколько против более современных образцов - Парнаса. Не менее агрессивен Рембо и по отношению к романтическому штампу - в длинном и язвительном стихотворении „Что говорят поэту о цветах“ высмеивается вся поэтическая оранжерея (розы, лилии, фиалки) и предлагается воспевать совсем иную флору - хлопок, табак, исландский мох, болезнь картофеля.
Говоря о разрыве с традицией и старой формой, нередко имеют в виду, что Рембо разрушил поэтическую форму вообще. Традиционно при описании поэзии периода ясновидения говорится об ее хаотичности, бессвязности, алогичности, спонтанности - „полная анархия“ (А. Киттанг), „свободный поток слов“ (Ж.-П. Джусто), „продукт свободной игры“ (Ж.-П. Брюнель) 18 . Критика, однако, часто идет на поводу у стремления обязательно представить Рембо как предшественника „автоматического письма“, предтечу сюрреалистов - „разрушителей литературы“. По оставшимся черновикам и на броскам, по свидетельствам современников можно установить, что Рембо упорно работал над текстом, изводил массу бумаги, добиваясь нужного результата, перерывал словари в поисках редких, необыч ных, устаревших слов („Разное поэтическое старье пришлось весьма кстати в моей поэтической алхимии“ 19 ). Фрагментарность, темнота, хаотичность его стиля не результат неконтролируемого порыва, но плод упорного поиска. Как же видения претворяются в слово, какую технику избирает Рембо, отказываясь от „старой формы“?
Выстраивание ассоциативных цепочек и эллипсис - основные приемы, через которые духовный опыт (откровение, видение) сгущается, концентрируется и превращается в эстетический феномен. Любой текст Рембо периода ясновидения - субъективная эллиптическая эпопея, которую отличает любопытный контраст между цельностью аффекта, единством переживания и фрагментарностью, „неполнотой“ формы. Этот контраст - отличительная черта поэтики эллипсиса или поэтики „разрыва“.
Семантическая и синтаксическая фактура ясновидческой поэзии демонстрирует опору поэта на резервы внутренней и эгоцентрической речи. Л. С. Выготский, как известно, классифицирует виды речи в зависимости от степени развернутости, проговоренности мысли, на речь „внешнюю“ („социальную“), речь «внутреннюю“ и речь эгоцентрическую“ - переходную от внешней к внутренней 20 . Социальная речь, письменная и устная, имеющая выраженную коммуникативную установку, по определению гораздо более развернута, чем речь эгоцентрическая. Внутренняя же речь „сгущена“, синтетична, смысл в ней преобладает над значением, весь контекст - над словом. Отличительные черты синтаксиса Рембо в „Озарениях“ совпадают с признаками эгоцентрической и внутренней речи. Во-первых, это предикативность, во-вторых - эллиптичность.
Обращение к резервам внутренней речи придает поэзии Рембо все более монологический характер и побуждает поставить вопрос об адресате, которому поэт направляет свое послание. Если рассматривать поэтический текст с точки зрения его коммуникативной функции (коммуникативная цепочка „автор - текст - читатель“), то следствием поэтики эллипсиса оказывается нарушение постулатов нормальной коммуникации (ПНК) 21 . С отказом от соблюдения ПНК связан момент эпатажа в текстах Рембо, который часто будто бы нарочно стремится дезориентировать читателя, повергнуть его в состояние недоумения и раздражения.
Прежде всего это постулат, требующий, чтобы у всякого события была определенная причина. Нарушение причинно-следственной связи - систематический прием в поэтике эллипсиса: „Усопшая юная мама сходит с крыльца... Братец (он в Индии!) ближе к закату, на поле гвоздики“. В мире индетерминизма время не существует („Есть часы, что вовеки не бьют“ 22 ) или существует иначе, чем в привычной жизненной реальности:
Принц и Гений, может статься, исчезли, канули в стихию здоровья. Да и как могли они не умереть? Итак, оба они умерли.
Но Принц в преклонном возрасте скончался у себя во дворце.
(Сказка. Пер. В. Орла)
Результатом нарушения причинно-следственных связей является отказ от постулата об общем знании. Для коммуникации необходимо, чтобы существовало некоторое количество общих элементов в памяти автора текста и реципиента. Как отмечают О. и И. Ревзины, „память - это в основном коллекция событий, позволяющих восстанавливать следствие всякой вещи. Если мир детерминизма не может быть понятен без памяти, мир индетерминизма исключает общую память“ 23 .
При отсутствии общей памяти требуется развернутое описание, восполняющее недостающую информацию. Рембо же заменяет описание ссылкой на якобы существующее „общее знание“с читателем, хотя этого знания нет и не может быть:
Сестре моей Луизе Ванан из Ворингема. К Северному морю повернут ее голубой чепец...
Сестре моей Леони Обуа из Эшби. Поющая и смрадная летняя трава - бау. - За матерей и детей в лихорадке.
Лулу - демоническому созданию, не утратившему пристрастия к молельням времен Подруг и своего незаконченного образования. За мужчин! Госпоже ***
(Благочестие. Пер. И. Кузнецовой)
В этом отрывке нарушается еще один важный постулат - о семантической связности. Законы языка предполагают семантические ограничения - слово или группа слов не может произвольно соче таться с абсолютно любым другим словом даже при сохранении правильной грамматической структуры. Словоупотребление Рембо также опирается на внутреннюю речь и идею текучести смыслов. Соответственно, частое нарушение семантической связности - наиболее яркая черта его идиолекта.
Внутренняя речь - это операции над смыслами, а не над значениями слов. Смыслы, широкие и подвижные, взаимодействуют друг с другом иначе, нежели значения. Смыслы вливаются один в другой, влияют друг на друга - и в итоге для перевода смысла внутренней речи на язык социальной речи пришлось бы развертывать длинные цепочки слов. Слово во внутренней речи как бы вбирает в себя весь контекст, оказываясь несравненно более нагруженным разными коннотациями, чем слово внешней речи.
Так, например, слово „пьяный“ имеет определенное, постоянное значение, одинаковое для любого контекста, в котором оно встречается. Тем не менее, в контексте стихотворения „Пьяный корабль“ оно получает новый, более широкий интеллектуальный и эмоциональный смысл, означая уже и „вдохновенный“, и „безумный“, и „ясновидящий, пророческий“, и „обреченный“, и многое другое. Это обогащение слова новым смыслом, который оно впитывает из контекста, обеспечивает динамику мысли. Слово обретает смысл в контексте предложения, предложение - в контексте стихотворения, стихотворение - в контексте всего творчества автора.
Помимо контекста, любая высказанная фраза имеет свой подтекст - скрывающуюся за ней мысль с ее мотивацией. При анализе любого высказывания мы вполне понимаем его, лишь добравшись до самого потаенного плана речевого мышления - его мотивации. В „Сезоне в аду“ Рембо поясняет мотивацию, стоявшую за созданием „Песни самой высокой башни“: „Характер мой ожесточался. Я прощался с миром, сочиняя что-то вроде романсов“ 24 . Без учета этого мотива восприятие стихотворения может быть совсем иным - И. Бонфуа, например, усматривает в нем жажду) жизни, эйфорию, возникающую от ощущения полноты бытия.
По своей функции внутренняя речь не предназначена для коммуникации, это речь для себя. Потому самая большая проблема, связанная с ее пониманием, - ее индивидуальный, сугубо субъективный характер. Каждое слово, функционируя в эгоцентрической речи, обретает постепенно новые оттенки, коннотации, благодаря чему разрастается поле его смысла. Л. С. Выготский определяет словесные значения эгоцентрической речи как „идиомы“, непереводимые на язык внешней речи, - они понятны только в речи внутренней, полной эллипсиса, пропусков. Слияние многообразных смыслов в одном слове, уникальность, индивидуальность их сочетания и придает идиоматический характер семантике эгоцентрической речи.
Внутренняя и эгоцентрическая речь, как легко видеть, оказывается тем артезианским колодцем, откуда могут быть извлечены самые неожиданные, яркие и перспективные ассоциации. Ассоциация - основной инструмент развития, залог динамики смысла. Ассоциация, соединяющая слово и значение, может закрепляться или ослабляться, обрастать связями с другими предметами, распространяться по сходству, смежности. Закрепление ассоциаций порождает общепринятые смыслы, эксплуатация которых приводит к появлению шаблона, штампа, эпигонства. Открытия же, обеспечивающие динамику смыслов, развитие и обогащение мышления, основаны на ярких и непривычных ассоциациях; чем неожиданней ассоциация, тем значительнее скачок в развитии смысла, и часто для восприятия и закрепления этой находки культурному сообществу требуется длительное время.
Встречая непредсказуемую ассоциацию, мысль реципиента возбуждается, начинает активно искать ключ к пониманию, „примеряя“ полученную информацию к структуре своей мысли. Этот процесс доставляет глубокое наслаждение, если поиск увенчался успехом. При этом смысл, заложенный автором, претерпевает значительную трансформацию - трактовка смысла так же субъективна, как и его происхождение. Если же соответствия отыскать не удалось, реципиент испытывает фрустрацию и отторжение - возникает феномен „непонятого гения“. Далеко не всякая ассоциация, основанная на индивидуальности внутренней речи, может быть воспринята другим сознанием. Однако усилия интерпретаторов, направленные на преодоление инерции восприятия, постепенно дают плоды. Так мы получаем в конце XX века сыровара, любующегося треугольной женщиной Пикассо.
Творчество тех поэтов-новаторов, которые опираются на резервы внутренней и эгоцентрической речи, нуждается в грамотной интерпретации, ибо оно может стать как основой увлекательных от крытий, так и источником величайшего разочарования.
Метод работы с такими текстами должен пониматься в исконном, буквальном смысле этого слова: „метод“ как „путь“. Метод включает в себя как дешифровку, так и „досоздание“, „дописывание“ текста. Этот подход отражает двухуровневую структуру поэтического мира. Образность, ассоциации, семантические поля слов определяются у автора, с одной стороны, культурным контекстом, с другой - субъективностью эгоцентрической речи, в которой концентрируется потаенная жизнь души.
Первый уровень предполагает анализ интертекстуальности, вы деление в идиолекте культурно обусловленных элементов, и их трансформацию, „переплавку“ под пером поэта. Здесь критик высту пает как аналитик, эрудированный комментатор. Второй уровень - это область, где мы вступаем на зыбкую почву смутных догадок и предположений, порой бездоказательных. Здесь требуется „критик как художник“, соавтор поэта, мобилизующий свою творческую ин туицию и вкус.
Первый уровень подлежит реконструкции и дешифровке в максимально полном объеме, второй - лишь в малой степени, причем вопрос о достоверности и оправданности этой реконструкции на всегда останется вопросом. Именно эти потерянные звенья в цепочке ассоциаций, загадку которых нам уже никогда не разгадать 25 , в первую очередь провоцируют на досоздание текста, возвращение ему целостности в воображении читающего. При этом конечный продукт, возникающий в воображении реципиента, будет неизбежно окрашен читательской субъективностью - эллиптический текст приглашает к такому прочтению.
Судьба А.Рембо удивительна. Романтическая «трещина» прошлась по его жизни и расколола ее надвое. Если в своем поэтическом бытии он был яростным ниспровергателем всего буржуазного и мещанского, то, умолкнув, стал частью того общество, которое раньше стремился разрушить. Поэт-бунтарь превратился в обывателя. До сих пор его уход из поэзии остается тайной. Была ли это усталость, горечь от непонимания окружающих? Или осознание того, что он как поэт неспособен найти адекватное объяснение мира? Или сама поэзия бессмысленна? В его черновиках к Пребыванию в аду написано: «искусство – глупость». Или же этот гений-дитя так стремительно и с такой исчерпывающей полнотой исполнил свой долг на земле, что ему, опустошенному, оставалось только уйти и раствориться в толпе?
ДВЕ ЧЕРТЫ ПОЭТИКИ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Среди черт, отличающих поэтику Высоцкого, есть две, занимающие особое место. Особенность их, во-первых, в том,что все, заметное невооруженным глазом: деформация идиом, каламбуры, поэтические маски, нарушение языковых норм, гиперболичность, изменяющиеся рефрены, нарочитая симметрия речевой композиции, хрестоматийная ясность аллегорий, яркая рифма, лирическая напряженность, сюжетность - вытекает из этих черт. Во-вторых, интересны эти черты тем,что дают, как кажется, ключ к языковой философии Владимира Высоцкого - поэта, который вместе со своими современниками шел дорогою всех языковых новаций, но который воистину проложил на этой дороге свою колею. В этой статье я как раз и попытаюсь показать,что Высоцкий и каламбурил, и идиомы взрывал, и маски примерял так, да не так, как его современники. Поймав в свои паруса языковую моду, поэт шел, однако, - и в этом мы еще не вполне отдали себе отчет - совершенно своеобразным, неповторимым языковым курсом.
Остается назвать эти черты. Но тут возникает затруднение. Если первую еще можно обозначить достаточно прозрачным и признанным термином двойничество , то наименование второй -риторическое мышление - может вызвать лишь недоверие. Поэтому снабдим это второе название приложением: риторическое мышление, или предельная заполненность позиций - и попросим читателя не торопиться с выводами.
Двойничество
Тема двойничества и судьбы. Перекличка с ХVII веком
Понятие двойничество аккумулирует многое в творческой манере Владимира Высоцкого и ниже будет рассмотрено в разных аспектах. Первый из них - тема судьбы, выступающей в роли двойника героя. Образ судьбы-двойника активно разрабатывался в так называемой демократической сатире ХVII века, и взятое в этом аспекте двойничество - один из мостиков, который связывает творчество Высоцкого с русской народно-смеховой культурой.
По свидетельству Д. С. Лихачева, тема двойничества «чрезвычайно важна для русской литературы всего времени ее существования» . Зарождение этой темы академик Лихачев видит уже в «Молении» Даниила Заточника (XIII век), как веху выделяет «Слово о хмеле» (XV век), а затем уже рассматривает произведения XVII века, когда с двойничеством были связаны магистральные тенденции литературной эпохи - открытие характера, постепенное осознание зависимости судьбы личности от ее качеств. В литературе нового времени мы обнаруживаем эту тему в произведениях Гоголя, Достоевского, Булгакова, Белого, Блока, Есенина...
В литературе XVII века двойники представляли собой персонифицированные черты характера, которые то в образе беса («Повесть о Савве Грудцыне»), то в образе ложного друга или сказочного персонажа («Повесть о Горе и Злочастии») возникали на жизненном пути героя. Двойник мог явиться также в виде копии персонажа, своей ложной противоположностью усиливая его черты («Повесть о Фоме и Ереме»). В литературе нового времени двойник появлялся как плод болезненной фантазии, следствие раздвоения личности («Двойник» Достоевского), реже как персонификация двух сторон человеческой души (Пискарев и Пирогов в «Невском проспекте»), чаще как внутренняя неперсонифицированная раздвоенность личности, типичная для рефлектирующих героев XIX века.
В поэтике Высоцкого двойничество играет особую роль, превращаясь в своеобразный творческий принцип, в основе которого лежит гуманная идея - сочувствие слабому при осуждении его слабостей, восходящая к христианской мысли: осуди грех, но прости грешника. Не отталкивать людей как аморальных, асоциальных, чуждых и т. п., но, солидаризируясь с тем человечным,что они сохранили в себе, указать путь нравственного очищения - такую возможность дает условное разделение души на два противоборствующих начала - двойничество. Это можно выразить словами героя шуточного стихотворения Высоцкого «И вкусы, и запросы мои странны»:
А суд идет, весь зал мне смотрит в спину.
Вы, прокурор, вы, гражданин судья,
Поверьте мне: не я разбил витрину,
А подлое мое второе Я
.
Связь Высоцкого с русской демократической сатирой XVII века, и особенно с «двойнической» литературой этого периода, очевидна: это и тема судьбы, и тема пьянства, и тема «голого и небогатого человека», и особый смех, направленный против сильных мира сего (социальной несправедливости) и в то же время против слабостей самого «голого и небогатого» , и характерное для русской смеховой культуры соединение смешного со страшным , и пародирование, сопряженное со смешением стилей . Но у нас есть уникальная возможность проследить, в чем же Высоцкий шел за традицией XVII века, а в чем пошел с ней вразрез. Такую возможность дает стихотворение «Две судьбы», прямым и непосредственным образом связанное с древнерусской «Повестью о Горе и Злочастии».
В обоих произведениях главный герой, не названный по имени, проводит первую часть своей жизни «по учению», а затем он встречается со своей судьбой, которая представляет собой персонифицированные пороки героя - пьянство и слабоволие. Губя героя, его злые гении вступают с ним в диалог, причем не только искушают его, но и объясняют ему причины его беды, «учат»:
Кто рули да весла бросит,
Тех Нелегкая заносит -
так уж водится! /1; 428/
А хто родителей своих на добро учение не слушает,
тех выучу я, Горе злочастное...
В обоих произведениях фигурируют образы реки и лодки, символизирующие жизнь и человека в ней. В обоих произведениях герою после упорного преследования удается спастись.
Итак, злая судьба является в виде живого существа, причем воплощение в свою очередь раздваивается: в древнерусском памятнике это Горе и Злочастие, у Высоцкого - Нелегкая и Кривая. Это подчеркивает, как известно, идею двойничества. Однако в повести и в стихотворении раздвоение самого двойника носит принципиально разный характер и на уровне идеи, и на уровне изобразительно-выразительных средств.
В стихотворении Высоцкого Нелегкая и Кривая - самостоятельные персонажи с разделением ролей. Эти роли связаны с фигурой, о которой мы еще будем говорить не раз, - деформацией идиомы, в частности с реализацией прямого смысла идиом: нелегкая заносит , а кривая вывозит . Точнее, в стихотворении она обещает вывезти, но движется по замкнутому кругу. Разница образов значима: Нелегкая карает ленивых, «кто рули да весла бросит», Горе - непокорных, «хто родителей <...> не слушает». Горе наказывает за бунтарство, нарушение традиций. Нелегкая - за конформизм: герой Высоцкого в самом прямом смысле слова плывет по течению:
Жил безбедно и при деле,
Плыл, куда глаза глядели -
по течению /1; 427/.
Поэтому Нелегкая закономерно влечет за собой Кривую - неправильную, шальную надежду на спасение без усилий. В «Повести о Горе и Злочастии» также есть тема ложного спасения. Оно в том,что«нагому-босому шумить разбой». Истинным же образом молодец спасся лишь постригшись в монахи. А вот ложное спасение ленивого в том,что он влезает на горб (в переносном смысле слова становится иждивенцем) отвратительной старухи - Кривой.
Став заложником Кривой и Нелегкой, герой стихотворения утрачивает свое я . Это отражается в употреблении самого местоимения я , очень значимого для темы двойничества у Высоцкого:
Я кричу, - не слышу крика,
Не вяжу от страха лыка,
вижу плохо я.
На ветру меня качает...
«Кто здесь?» Слышу - отвечает:
«Я, Нелегкая!».
В начале строфы я - это сам герой, местоимение стоит в начале стиха, конструкция активная. Потом я опущено, потом инвертировано, потом конструкция становится пассивной, потом я - это уже двойник. Любопытна и каламбурная рифма плохо я - Нелегкая , где я словно растворяется в своем двойнике.
Непокорный герой повести спасся в монастыре, ленивый герой стихотворения - тем,что«греб до умопомрачения». Герой обретает самостоятельность, делает свой собственный выбор. Тема самостоятельного нравственного выбора чрезвычайно важна для Высоцкого. Другое «двойническое» стихотворение («Мой черный человек в костюме сером...») заканчивается словами:
Мой путь один, всего один, ребята, -
Мне выбора, по счастью, не дано /2; 143/.
Так замыкается круг двойничества и герой обретает единство. В стихотворении «Две судьбы» происходит еще более интересное замыкание круга: Нелегкая и Кривая словно бы развоплощаются и возвращаются назад в стихию языка:
А за мною по корягам,
дико охая,
Припустились, подвывая,
Две судьбы мои - Кривая
да Нелегкая /1; 429/.
Хотя оба слова и даны в тексте с заглавной буквы, при произнесении этих строк мы ощущаем кривую и нелегкую как обыкновенные определения при слове судьба (сравним: нелегкая судьба , кривая судьба ). Само название «Две судьбы» таит возможность такой трансформации. Ведь в средневековой повести Горе и Злочастие - полноценные существительные, способные обозначать вполне самостоятельные персонажи, в тексте Горе даже говорит о себе в мужском роде, несмотря на грамматический средний род этого слова «горе». У Высоцкого - это субстантивированные прилагательные, вновь вернувшиеся к своей функции - служить определением при имени. Современный автор подходит более рационально к теме судьбы. Он не обольщается тем,что герой становится ее жертвой. Для него судьба , двойник - только литературный прием. В стихотворении «Грусть моя, тоска моя» есть такие слова: «Сам себя бичую я и сам себя хлещу, - // Так что - никаких противоречий» /1; 482/. Герой и двойник у Высоцкого могут поменяться местами, как в стихотворении «Две судьбы», где Кривая и Нелегкая пьянствуют вместо героя, или в «Песне о судьбе» и в стихотворении «Про черта», где герой не знает, кто кому кажется: ему двойник или он двойнику.
В «Повести о Горе и Злочастии» насмешка не обращена против Горя, равно как и в другой средневековой повести - о Савве Грудцыне - насмешка не обращена против беса. У Высоцкого сам двойник может выступать в смешном виде, и это связано именно с пафосом личности и ее свободы. Двойник - путы героя, и эти путы не только безобразны, но и смешны.
Насмешка над двойником особенно заметна в «Песне-сказке про джинна». Здесь трансформируется выражение «джинн из бутылки», и с самого начала насмешка направлена против джинна (сравни средневековое «Слово о хмеле»), персонифицирующего идею пьянства с его ложным ощущением силы. Герой ждет от вина чудес:
«Ну а после - чудеса по такому случаю:
До небес дворец хочу - ты на то и бес!..»
А он мне: «Мы таким делам вовсе не обучены, -
Кроме мордобитиев - никаких чудес!» /1; 133/
Средневековый Хмель выступает как грозная, необоримая сила, а джинн смешон даже своим речевым поведением: из его слов выходит,что мордобитие для него чудо. Да и в быту он не всемогущ: «супротив милиции он ничего не смог».
Тема двойничества, судьбы очень характерна для творчества Владимира Высоцкого. Следуя ей, он идет в русле демократической сатиры XVII века. За этой темой, как это было в русской литературе всегда, стоит защита оступившегося человека, в котором уже то вызывает сочувствие,что он страдает. Но двойничество как прием поставлено у Высоцкого на службу еще одной идее - суверенности личности и свободы ее нравственного выбора. И это влечет за собой иной арсенал языковых средств. Здесь мы переходим к новому аспекту двойничества, связанному с деформацией, или расщеплением идиом.
Раздвоение языковой личности и расщепление идиом
В шестидесятых годах нашего века исследователи отмечали «паронимический взрыв» - тягу к игре слов, к каламбурному сближению разных по значению, но близких по звучанию оборотов, к «обыгрыванию» пословиц и фразеологических единиц . Тогда же появились термины «трансформация фразеологической единицы», «расщепление идиомы» и т. п. Этот процесс захватил заглавия литературных произведений, проник в научно-популярный стиль и задержался в газетном заголовке (например, «Сказка о рыбаке и репке»). Одно время по этому поводу даже сокрушались . Активно разрабатывался специальный жанр «фразы», сводящийся к игре устойчивыми выражениями вроде «Его место в жизни было местом для инвалидов и детей». Под знаком каламбура развивалось например, творчество Феликса Кривина. Обыгрывание устойчивых оборотов и сегодня неотъемлемый атрибут юмористических и сатирических произведений (сравним незначительную роль подобных приемов в юмористических рассказах раннего Чехова, в сатире Булгакова). Постепенно это явление незаметно перешло в моду на интертекстуальность, аллюзивность (в меру культурного кругозора), слилось в литературном «откутюре» с коллажем из цитат, скрестилось с клиповым мышлением. Но тогда, в шестидесятые и семидесятые годы, доминировало именно расщепление идиом, преобладали прежде всего контаминации и реализации буквального смысла.
Не нужно быть наблюдательным человеком,чтобы заметить: едва ли не каждая строчка Высоцкого содержит каламбур, основанный на расщеплении устойчивых выражений. Менее заметно другое: каламбуры Высоцкого всегда мотивированы языковой личностью . Более того, эти каламбуры отражают драму языковой личности, не комедию, а именно драму столкновения этой личности, обычно культурно, а иногда и умственно обделенной (духовно «голого и небогатого человека») с языком и культурой.
Симпатии Высоцкого и здесь на стороне слабого. Вспомним, какой удельный вес занимает в его творчестве имитация речи душевнобольных, склонных все понимать буквально.
Так, герои известного стихотворения «Письмо в редакцию телевизионной передачи “Очевидное - невероятное” из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи» понимают буквально выражение съесть собаку , переосмысливают устойчивое выражение удивительное рядом , неловко сближают в речи слова дока и доктор . То же и в прозе: «Жизнь без сна» - редкий пример того, как выдуманный мрачным и не очень гуманным двадцатым веком «поток сознания» служит христианнейшим идеям добра, да еще и сам введен по-доброму, с улыбкой.
Что объединяет языковое поведение умственно и культурно ущербных героев Высоцкого? Только ли ущербность? Языковая личность, изображаемая Высоцким, всегда отличается повышенной доверчивостью и простодушием. Обе эти черты очень русские, и не случайно каламбуры Высоцкого вызывали такой горячий отклик, а механические каламбуры газетных «фраз» проскакивали мимо сознания.
Вот еще один «больной» Высоцкого - герой цикла из трех стихотворений («Ошибка вышла», «Никакой ошибки» и «История болезни»). Отвлечемся от того,что весь антураж больницы - аллегория допроса. Больной видит на стене портреты известных врачей (в другом плане - иные портреты) и старается этим себя успокоить: «Хорошо,что вас, светила, всех повесили на стенку - // Я за вами, дорогие, как за каменной стеной»:
Мне сказали: «Вы больны», -
И меня заколотило,
Но сердечное светило
Улыбнулось со стены /1; 415/.
Выражение сердечное светило понимается в смысле «сердечный, добрый человек».
Кто виноват в трагедии непонимания культурных ценностей, отложившихся в сокровищнице идиом: языковая личность или сама культура? Здесь, как и в случае с «голым и небогатым», вина ложится на обе стороны. Высмеивая газетные и канцелярские штампы, Высоцкий изображает их враждебность по отношению к простому человеку. Когда Корней Чуковский заговорил о «канцелярите» и авторитетные лингвисты поддержали его , речь шла о защите культуры как бы от внешней угрозы. Такова же сатирическая позиция Зощенко или Булгакова. По-иному у Высоцкого. Он показал, как штампы живут внутри языковой личности и наносят ущерб ее цельности. Эта недоброкачественная языковая пища таит в себе угрозу, подобно недоброкачественным телепередачам, дезориентирующим, одурманивающим простодушного зрителя, как это показано в «Жертве телевидения», где доверчивый зритель рассуждает:
Если не смотришь - ну пусть не болван ты,
Но уж, по крайности, богом убитый:
Ты же не знаешь,что ищут таланты,
Ты же не ведаешь, кто даровитый! /1; 314/.
Названиями передач этот герой манипулирует как словами:
«А ну-ка, девушки!» «А ну-ка, па
рням!»
Вручают премию в О-О-ООН!
Но сокровищница на то и сокровищница. Там не одни плевелы, есть и пшеница. Те же идиомы оживляют прописные истины, наставляют на путь. В прямых значениях слов, в пословицах, сказках заключен вечный смысл, о чем прямо говорит сам
Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки - из прошлого тащим, -
Потому что добро остается добром -
В прошлом, будущем и настоящем! /1; 400/.
Я и другой: контраст, сходство, смежность
Принятые в литературоведении представления о лирическом я , или лирическом герое, тесно связаны с идеями немецкой классической философии, разрабатывавшей категории объективного и субъективного. Само представление о лирике как о литературном роде, сформулированное Аристотелем в совершенно иной парадигме, было понято и до сих пор понимается в свете этих категорий. Здесь нет места для теоретических споров, но понятие «лирическое я » становится все менее и менее адекватным по отношению к современной лирике. Значительно плодотворнее подход, наметившийся в творчестве Михаила Бахтина, который ввел в рассмотрение антитезу я и другой . В этом же новом русле лежат и философские идеи Мартина Бубера . В самом деле, явления художественной речи и речи вообще невозможно адекватно понять, если исходить из представлений только об одном познающем субъекте и познаваемом им мире.
В лирике Высоцкого можно выделить оппозиции я и мир и я и другой . Последняя, в свою очередь, раздваивается: я может находится в кадре (в стихотворении) и за кадром, и тогда между героем стихотворения и авторским я возникают различные отношения: контраст, подобие или смежность.
Оппозиция я и мир , укладывающаяся в традиционное представление о лирическом герое, очень ярко заявлена в стихотворении «Я не люблю», где напрямую высказываются авторские оценки. Но в целом ряде стихотворений («Песня о друге», «Он не вернулся из боя» и другие) в основе лежит антитеза я и другой , а в громадном большинстве случаев я стихотворения связано с авторским я лишь метафорическими и иными ассоциациями. Эти наиболее интересные случаи совершенно не укладываются в традиционное представление о лирическом герое, но связаны с двойничеством. Им мы и уделим внимание. Но сначала о том случае, когда я и другой появляются в кадре стихотворения.
Он мне спать не давал, он с восходом вставал, -
А вчера не вернулся из боя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Все теперь одному, только кажется мне -
Это я не вернулся из боя /1; 213/.
А вот в шуточном стихотворении «Зэка Васильев и Петров зэка» антитеза оказывается ложной. Здесь снова параллель с ХII веком, с историей о знаменитой паре неудачников - Фоме и Ереме:
Ерема был крив, а Фома з бельмом,
Ерема был плешив, а Фома шелудив.
У Высоцкого:
Куда мы шли - в Москву или Монголию, -
Он знать не знал, паскуда, я - тем более /1; 38/.
Когда же я остается за кадром, между ним и персонажем возникают не только отношения контраста, но и отношения сходства. Автор обычно передает герою какие-то из своих черт. Это - страдательная позиция, простодушие и упрямая воля к жизни и правде. Именно страдательная позиция позволяет автору надевать самые рискованные маски гонимых и отверженных - волков, преступников, опустившихся личностей, неудачников, всех, кто может сказать себе: «Скажи еще спасибо,что живой». Простодушие позволяет сообщить речевому поведению героев те черты, о которых мы говорили выше и которые умножают сочувствие к нему. Упрямая воля к жизни делает его поэзию оптимистической. Все это вместе взятое и придает ценность аллегорической маске. Маска начинает восприниматься как живой человек и вызывает сочувствие.
В «Охоте на волков» сходство героя и автора очевидно. Все стихотворение - развернутая и прозрачная метафора гонения («обложили меня, обложили»), запрета (красные флажки), неравной борьбы («не на равных играют с волками...») и воли к жизни («воля к жизни сильней»).
Итак, между авторским миром и миром персонажей устанавливаются метафорические отношения. Герой подобен автору, а мир героя, будь то охота, спорт, война, цирк или преступление, аллегорически уподобляется миру автора. Разумеется, миры, в которых разворачивается действие, неравноценны в плане эстетической и этической значимости, и там, где речь идет не об условном колорите, сходство автора с героем позволяет психологически достоверно ставить проблемы «человек на войне», «человек в горах» и т. д. Обратим, однако, внимание на то,что наряду с отношениями сходства между авторским миром и миром героя иногда возникают отношения смежности. Миры автора и героя соприкасаются. И это превращает притчевую аллегорию, типичную, казалось бы, для стихов Высоцкого, в нечто более сложное.
В стихотворении «Бал-маскарад» действует типичный для творчества Высоцкого двойник автора. Он не в ладах с языком и культурой, неловок, но не зол, доверчив, открыт и простодушен. Маски здесь - тема самого стихотворения. Герой-маска сам получает маску - алкоголика, и дальше логика жизни-маскарада заставляет его действовать по природе личины, которой наградил его «массовик наш Колька». Столь же простодушна и жена его, - они схожи в языковом поведении. Она говорит о маске пьяницы:
«<...>И проведу, хоть тресну я,
Часы свои воскресные
Хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде!» /1; 64/
Он же называет озверением надевание масок животных.
Пространство аллегории по самой природе тропа не должно быть проницаемым, этим, собственно, парабола (притча) отличается от парадигмы (примера из жизни). Не может в басне действовать сам баснописец, ему отведено специальное внесюжетное место - мораль. Не может в притче действовать ее рассказчик, ему также отведено специальное место - антаподозис (комментарий). Но аллегория у Высоцкого оказывается проницаемой для жизни. Это путешествие автора в мир собственной сатиры, а зачастую и гротеска - явление интересное. Невозможно вообразить, скажем, Щедрина среди «игрушечного дела людишек». Возможна в лучшем случае параллель между изготовителем «людишек» и автором. Зато в демократической сатире XVII века такую ситуацию вообразить можно.
Иногда подобную авторскую позицию в раздражении называют юродством, не отдавая себе отчета в том,что возвращают этому слову его исконное значение. Христа ради юродивыми назывались люди, живущие в миру, но не защищенные от мира. Автора, спустившегося с пьедестала авторской недосягаемости в мир сатирических персонажей, можно назвать юродствующим ради правды.
Я и сверх-я. Источник аллегоричности
«Двойническая» тема обычно не предполагает положительных двойников. Двойник героя олицетворяет его пороки. Но в творчестве Высоцкого есть и другой поворот темы: двойник героя - высшее начало в нем, зовущее его к жертве, к подвигу.
В «Песне самолета-истребителя» такой двойник вводится перифразисом тот, который во мне сидит . Это описательное выражение акцентировано не только своей длиной и повторами в тексте, но и тем,что тот не назван по имени. Само повествование ведется от лица самолета-истребителя, который уподобляется человеку. Но внутри себя этот человек ощущает двойника, того, который в нем сидит, и с досадой констатирует,что этот двойник требует от него все новых и новых усилий, все новых и новых жертв:
Уйду - я устал от ран!..
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу, решил - на таран! /1; 179/
Этот неугомонный двойник «считает,что он истребитель». Здесь слово истребитель переосмысливается. Двойник героя выступает разрушителем, истребителем его самого, но не бессмысленным разрушителем, подобно Кривой и Нелегкой, а высшим началом, требующим постоянного принесения себя в жертву.
Стихотворение поражает самостоятельной значимостью буквального плана. Ведь в притче этот план чисто условен; здесь же перед нами в красках, а главное в звуках, встает картина воздушного боя. В аллитерациях и ассонансах слышатся вой и вибрация моторов, звук падающей и разрывающейся бомбы, звук пикирующего самолета:
Из бомбардировщика бомба несет
Смерть аэродрому, -
А кажется - стабилизатор поет:
«Мир вашему дому!».
Благодаря двойничеству мы чувствуем и психологическую обстановку боя. Мы видим не картинный подвиг бодрого картонного героя, а настоящий подвиг, стоящий больших душевных усилий. Мы прослеживаем динамику подвига, его диалектику. Одна половина души борется за то,чтобы уцелеть в невыносимых условиях,что тоже не назовешь эгоизмом, а другая ставит перед ней новые, немыслимые задачи, выходящие за пределы ее возможностей: «Бензин, моя кровь, на нуле». И все-таки это не только песня о войне, это стихотворение о жертвенности вообще, в том числе и о поэте, приносящем себя в жертву («Светя другим, сгораю сам»). И совсем не случаен рефрен. Это не просто точная звукопись: самолет с воем обрушился и взорвался. Гибель героя несет мир нашему дому. Так и в стихотворении о черных бушлатах «грубая наша работа» (жертва) дает возможность оставшимся в живых «беспошлинно видеть рассвет». Так и поэт, сжигая себя, несет мир в души людей.
Пару самолет и летчик можно понимать и как аллегорию тела и души. Та же аллегория и в стихотворении «Кони привередливые»: здесь снова драма человека, который загоняет себя, как загоняют коней. Жизнь же изображается как езда «по-над пропастью, по самому по краю». Образ саней - древний образ смерти, использованный еще в «Поучении» Владимира Мономаха. На тему похорон прозрачно намекают и такие слова: «Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий», «Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони». Понятно поэтому, почему седок заклинает коней «тугую не слушать плеть». Но он продолжает погонять их этой же самой плетью. Я героя раздваивается. Вот почему местоимение я так отчаянно звучит в анафоре рефрена:
Я коней напою,
Я куплет допою /1; 299/.
Если в таких стихотворениях, как «Две судьбы» или «Меня опять ударило в озноб», мы сталкиваемся с оппозицией я и оно , если использовать терминологию Фрейда, то в стихотворениях «Песня самолета-истребителя» и «Кони привередливые» мы видим оппозицию я - сверх-я .
Очень своеобразно преломляется двойничество в «Памятнике». Высшее начало, сверх-я , остается жить и в наследии поэта, продолжая ту же борьбу духа и плоти, жизни и смерти, которую вели двойники при жизни поэта. Стихотворение трагично. Поэт умер, с него «маску посмертную сняли», стесав с гипса на всякий случай «азиатские скулы». Наследие канонизировано. «Современные средства науки» превратили «отчаяньем сорванный голос» в «приятный фальцет». Статуя уподобляется Ахиллу, который погиб, уязвленный в пяту. Поэт уязвлен посмертной славой. Ахиллесова пята - это то,что привязывает его к пьедесталу:
Не стряхнуть мне гранитного мяса
И не выдернуть из постамента
Ахиллесову эту пяту,
И железные ребра каркаса
Мертво схвачены слоем цемента, -
Только судороги по хребту /1; 346/.
Итак, поэта, любящего жизнь, «подвергли сужению» после смерти. «Маяковские» мотивы стихотворения, смешанные с личными, усиливают контраст между молодостью, протестом, широтой натуры и «могильною скукой».
Все акценты, казалось, расставлены. Все в прошлом. Откуда взяться динамизму - здесь-то? Но вот новый поворот сюжета - шаги командора. Статуя, вопреки всему, оживает:
И шарахнулись толпы в проулки,
Когда вырвал я ногу со стоном
И посыпались камни с меня.
И снова появление высшего начала разрушительно: статуя рушится, как гибнет самолет-истребитель. Но это разрушение во имя высшего созидания. Происходит неожиданное узнавание. Когда памятник рушится наземь, голос из рупора хрипит (прорвался сквозь «приятный фальцет»): «Живой!»
Таким образом, лирическое я в поэзии Владимира Высоцкого трехслойно: это высшее я , находящее аллегорическое воплощение, я самого автора и герой-маска, который находится с автором в отношении сходства и контраста, а также и смежности. Последнее делает стихи Высоцкого особенно демократичными, открытыми.
Риторическое мышление,
или предельная загруженность позиций
Исчерпывание мыслительного поля и его следствия
Вслед за романтиками мы привыкли третировать риторическое мышление как сухое, дедуктивное и теоретичное (схематичное). В статье «Риторика как подход к обобщению действительности» академик С. С. Аверинцев трактует риторическое мышление как диаметрально противоположное романтическому и дает весьма любопытные примеры последнего . Так, завсегдатаи одного литературного кафе называли всех, кто не принадлежал к их кругу, «фармацевтами». Романтическое мышление не стремится к дифференциации, особенно того,что оно считает чужим. В противоположность этому мышление риторическое всегда тяготеет к перебору возможностей,что также очень ярко проиллюстрировано в названной статье...
Мы привыкли рассуждать о том,что риторическая аллегория суха, забывая при этом о моделирующей роли этой аллегории. Жизнь красочней риторической схемы, но в ней представлен один исход событий, а риторика разворачивает перед нами целую парадигму возможностей. По самой своей природе риторика, по крайней мере вся Аристотелева традиция, связана с категорией возможного. Тот, кто склоняет аудиторию в пользу какого-то поступка, должен додумать все следствия и из этого поступка, и из противоположного. Задача оратора - разворачивать возможности, выводить следствия из причин, поворачивать явление разными гранями, если угодно, исчислять эти грани, перебирать их. Поэтому риторические построения часто бывают симметричными, и это может произвести впечатление искусственности, рассудочности. Но этой симметрии обычно сопутствует глубина мысли и эмоциональная напряженность.
Высоцкий - редкий и яркий пример поэта, наделенного риторическим мышлением. Из великих имен прошлого столетия здесь, пожалуй, можно назвать только одно, зато самое великое. Правда, выпускник Лицея, синтезировавший классическую и романтическую традицию, проявлял риторическое мышление больше в крупных формах - поэмах, повестях, драматических сценках, а риторическая развернутость лирических стихотворений («Приметы», «Дорожные жалобы», «Калмычке», тем более «Я помню чудное мгновенье») не бросается в глаза. Ближайший учитель Высоцкого охотно брал на себя функции агитатора и даже популяризатора, но путь риторики для Маяковского был закрыт эгоцентризмом и самого поэта, и его школы, и его эпохи . Нечто подобное можно сказать и о поэзии Лермонтова, в которой академик В. В. Виноградов справедливо усматривал черты «ораторского» стиля, беря, впрочем, это слово в кавычки . Речь поэта-трибуна или поэта-пророка связана с активным использованием риторических фигур, но вовсе не обязательно объясняется риторическим мышлением.
Вот стихотворение Высоцкого «Кто за чем бежит» («На дистанции - четверка первачей...»). Четыре бегуна представляют собой четыре жизненные позиции и, кстати, четыре классических темперамента. Автор не относится к этим позициям бесстрастно. Присутствует здесь и обязательный спутник лирики Высоцкого - юмор. Например:
И соперничать с Пеле
в закаленности,
И являть пример целе-
устремленности! /1; 367/
И все-таки, если всмотреться, стихотворение поражает своей откровенной риторичностью (просто какое-то миниатюрное издание «Характеров» Теофраста!):
На дистанции - четверка первачей,
Злых и добрых, бескорыстных и рвачей.
Кто из них что исповедует, кто чей? /1; 302/.
Явлены четыре позиции, бегло названы четыре биографии, но присутствует здесь и сам поэт-гуманист. Он сочувствует всему,что достойно сочувствия, он смеется над всем,что достойно смеха, перед нами риторика, но в то же время - лирика.
Риторика Высоцкого это не только разворачивание разных судеб, рассмотрение разных случаев. Ее формула - максимальное исчерпывание мысленного поля: додумывание, дочувствование, договаривание.
Рассмотрим в этом отношении не слишком известное стихотворение «Песня про белого слона». Уже в заглавии мы видим отталкивание от идиомы сказка про белого бычка . В самом стихотворении реализуются буквально все оппозиции, в которых участвует образ «белый слон»:
Средь своих собратьев серых - белый слон
Был, конечно, белою вороной /1; 302/.
Белый слон синонимичен белой вороне и антонимичен серым слонам . Работает в стихотворении и оппозиция слон - слониха . Кроме того, живой слон противопоставлен декоративному слону, сделанному из белой слоновой кости. В связи с темой слона упоминается не только слоновая кость, но и то,что вообще ассоциируется со слоном: Индия, величина, Ганг, семь слонов как символ счастья, реверанс слона, езда верхом на слоне - и все это в десяти четверостишиях.
Симметрия сюжетных и словесных повторов
Стихотворения Высоцкого в большинстве случаев - баллады, в них присутствует сюжет. Если же сюжета нет, то всегда есть то,что принято называть движением лирических мотивов :что-то происходит либо с персонажами, либо с чувством героя. Последнее может нарастать, меняться на противоположное, вращаться в замкнутом кругу и неожиданно вырываться из этого круга. В композиции стихотворения риторическое мышление проявляется и на уровне сюжета, и на уровне словесных фигур, образующих своими сплетениями так называемые схемы выдвижения .
«Песенка про козла отпущения» написана, казалось бы, по законам басни: в основе лежит аллегория - типичные басенные звери уподобляются людям. Но подлинная басня, несмотря на рассудочность и интерес к ней со стороны классицистов, жанр архаичный, дориторический. В ней нет стремления к развертыванию темы, к риторическому анализу, в ней есть только какое -нибудь простое наблюдение над жизнью, отлитое в бесхитростный сюжет. Высоцкий отталкивается от идиомы козел отпущения . Оживляя эту идиому, он наполняет связанные с ней языковые ассоциации социально-психологическим содержанием. Козел прежде всего противопоставлен Волку как жертва хищнику. Все мы знаем песню о сереньком козлике, и в первоначальном варианте заглавия были слова серенький козлик , в тексте - «не противился он, серенький, насилию со злом». Но оппозиция не ограничивается темой «волк и ягненок». Козел «хоть с волками жил - не по-волчьи выл». Другая идиома раскрывает другой нюанс: козел не стремился в хищники, в сильные мира, «не вторгался в чужие владения», был скромником. Тут актуализируется еще одна грань, и тоже с опорой на языковые ассоциации: «Толку было с него, правда, как с козла молока, // Но вреда, однако, тоже - никакого». Слово козел имеет в языке отрицательную коннотацию. Эта струна звучит уже в первом куплете: «Блеял песенки все козлиные». Тем не менее «скромного козлика» избрали козлом отпущения: его наказывают за чужие грехи, за грехи сильных - волков и медведей. Постепенно, однако, Козел начинает понимать преимущество своей «страдательной» позиции и начинает пошаливать: «Как-то бороду завязал узлом - // Из кустов назвал Волка сволочью». Завязать бороду узлом - еще одна идиома, образ козла ассоциируется с бородой (снова идиома - козлиная борода ). И вот, когда нарисован уже совсем не басенный, а достаточно сложный портрет Козла, следует новый поворот сюжета:
Пока хищники меж собой дрались,
В заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис -
Дорогой Козел отпущения!
Услыхал Козел - да и стал таков:
«Эй вы, бурые, - кричит, - эй вы, пегие!
Отниму у вас рацион волков
И медвежие привилегии!»
Оборот козел отпущения теперь раскрывается с иной стороны:
«Отпускать грехи кому - это мне решать:
Это я - Козел отпущения!» /1; 353/
В первом варианте, опубликованном в сборнике «Нерв», переосмысливалось и выражение козлятушки-ребятушки («А козлятушки-ребятки // засучили рукава - // И пошли шерстить волчишек в пух и клочья!» /1; 520/). Итак, перед нами, во-первых, сюжет с перипетиями, во-вторых, достаточно сложный образ главного персонажа, подстать «маленьким людям» Достоевского вроде Фомы Фомича, в-третьих, достаточно деликатная тема спекуляции на страданиях. Все это не укладывается в басенную схему, но никак не вяжется и с романтическим представлением о лирике. Стихотворение - это риторическое развертывание темы в концептосфере русского языка. Введенное в оборот академиком Лихачевым, понятие концептосферы очень существенно и для интерпретации творчества Высоцкого, и для уяснения причин его беспрецедентной популярности в самых широких кругах. Все связи, по которым шло развертывание темы, хорошо знакомы всем говорящим и думающим на русском языке, как хорошо знакома всем русским и психологическая нюансировка темы. Здесь разворачивание идиом не мотивировано языковой личностью героя-двойника. В этом нет необходимости, ибо это не газетные, телевизионные или канцелярские штампы, а золотой фонд родного языка. Языковые связи, ассоциации оживают и, как прописи, учат нас пониманию жизни. Но дидактика Высоцкого, но прописные истины у Высоцкого не банальны, как в басне, где «на выходе» мы имеем обычно то,что уже знали «на входе». Напротив, песни Высоцкого всегда обогащают. Это оттого,что его дидактика додумана, прописи дописаны.
Сюжетному развертыванию на уровне слов соответствуют риторические фигуры, концентрация которых в текстах Высоцкого чрезвычайно высока. Фигуры повтора обычно образуют схемы выдвижения: симметрично расположенные повторы выделяют значимые для смысла целого слова и образы. Частой схемой выдвижения является схема обманутого ожидания . При обманутом ожидании повторы, например, в рефрене, формируют определенное читательское ожидание, а затем внезапно это ожидание нарушается, например, в переменном рефрене: «Это я не вернулся из боя» вместо «он не вернулся из боя».
В стихотворении «Песня о звездах» слово звезда повторяется в каждом четверостишии. Здесь снова риторическое разворачивание: звезда падает, со звездой связывают свою жизнь, звезда - удача, звезда - награда. Все эти значения реализуются. Главная тема - падение звезды как символ судьбы героя: кому какой жребий выпадет. Герою стихотворения выпадает смерть, но: «Вон покатилась вторая звезда - // Вам на погоны». В конце падение звезд неожиданно останавливается. Герой убит, и заслуженная им награда осталась на небе:
В небе висит, пропадает звезда -
Некуда падать /1; 62/.
А вот в другом стихотворении с военной тематикой - «Мы вращаем Землю» - повторы, как это часто бывает у Высоцкого, сочетаются с градацией. В первый раз в рефрене:
Мы не меряем Землю шагами,
Понапрасну цветы теребя, -
Мы толкаем ее сапогами -
От себя, от себя!
Во второй раз уже:
И коленями Землю толкаем -
От себя, от себя! /1; 331/
Затем: «Шар земной я вращаю локтями». И наконец: «Землю тянем зубами за стебли». Таким образом, эпифора (повтор в конце строфы) От себя, от себя! сопровождается смысловой градацией. Градация тоже своеобразный способ разворачивания, исчерпывания мысли и образа. Такому исчерпыванию обычно сопутствует эмоциональный накал и гиперболизация.
Эмоциональная исчерпанность. Гипербола и гиперболизация
Если на логическом и образном уровне риторическое разворачивание реализует принципы «додумать» и «досмотреть», то на эмоциональном уровне господствует принцип «дочувствовать». Чувство, как правило, доводится до логического конца - гиперболизируется. Собственно, гипербола в древнейшем значении термина, сохранившемся в этимологии («перебрасывание») и засвидетельствованном в древних дефинициях, означает переход через некий предел. Скажем, высшим носителем женской красоты считалась Афродита, ее красота мыслилась как предельная. Следовательно, «быть красивей Афродиты» или «быть с ней схожею» - гипербола. В феномене гиперболы и сегодня ощущается не только «заведомое преувеличение», как сказано в современных определениях, но и некий «перехлест», некая запредельность, нарушение границ. «Мой финиш - горизонт», - говорит поэт, и это гипербола в классическом смысле слова, ибо невозможно достичь горизонта, а тем более выйти за его пределы.
Гипербола Высоцкого в композиции стихотворения сродни приему обманутого ожидания. Поэт сначала дает ощутить предел, а потом против всех законов психики и физики переходит его. Эта предельность напряжения всегда чувствуется в авторском исполнении песен Высоцкого. «Волк не может нарушить традиций», но он все-таки нарушает их. Сегодня не так, как вчера , - вот принцип гиперболы. Наблюдатели издали наблюдают, как волны «ломают выгнутые шеи». Они вне досягаемости волн, они лишь «сочувствуют слегка погибшим, но издалека». И хотя они вне досягаемости,
Но в сумерках морского дна -
В глубинах тайных, кашалотьих -
Родится и взойдет одна
Неимоверная волна, -
На берег ринется она -
И наблюдающих поглотит /1; комм. С. 521/.
Гипербола Высоцкого психологичней и национальней, чем гипербола Маяковского, творчество которого во многом послужило для Высоцкого образцом. У Маяковского гипербола - это прежде всего демонстрация силы. Ощущение планетарной правоты идеи резонирует с космическим одиночеством и эгоцентризмом авторского я , и в этом резонансе, в этом слове «о времени и о себе» рождается гипербола Маяковского (любопытно,что он может начать стихотворение гиперболой, не выстроив никакой предваряющей градации). Гипербола у Высоцкого - это либо угар куража, либо жест отчаяния, либо безумная, упрямая надежда максималиста,что из безнадежного положения все-таки можно выйти. Во всех случаях она психологически узнаваема, если можно так парадоксально выразиться, реалистична. Это мир чувств русского человека, где есть и «цыганщина», и «достоевщина», и аввакумовская истовость.
Пример гиперболы-куража находим в стихотворении «Ой, где был я вчера»:
Тут вообще началось -
Не опишешь в словах, -
И откуда взялось
Столько силы в руках! -
Я как раненый зверь
Напоследок чудил:
Выбил окна и дверь
И балкон уронил /1; 141/.
Ощущение безудержного разгула, куража доводится до логического завершения, и это создает гротескные образы вроде балкон уронил . От всего этого веет похождениями Васиньки Буслаева. Гиперболу отчаяния, даже слабости можно найти в стихотворении «Еще не вечер»: «Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах, - // Мы покидали тонущий корабль» /1; 183/. Это кто в слезах - замечательный пример того, как слабость оборачивается силой, ведь в стихотворении в слезах идут на абордаж! Чаще же всего за гиперболами стоит неистовая воля к жизни, к свободе. Это то настроение, когда контрнаступление начинается из немыслимого положения, когда битва разгорается уже на краю бездны. И это сугубо русское состояние души не могло быть не узнано миллионами слушателей.
Исчерпывание языковых средств:
предметные области, тропы, грамматика, рифма, звукопись
В отношении самих языковых средств в поэтике Владимира Высоцкого действует тот же риторический принцип - исчерпывание потенциальных возможностей, разворачивание парадигм. Это, кстати, не вытекает автоматически из риторической установки, а связано с тем,что у Высоцкого, как и у многих современных поэтов, сам язык из инструмента превращается в объект исследования и к этому объекту применяется та же установка,что и к другим. То,что судьба языка находится в объективе авторского внимания Высоцкого, заслонено яркими реалистическими картинами, психологизмом и лирическим накалом. Тем не менее это так. Чтобы сделать язык героем своего стихотворения, не обязательно быть холодным интеллектуалом, не знающим жизни. Для этого также не обязательна пресловутая «дегуманизация искусства» и клятва на верность постмодернистским идеалам. Для этого нужно только хорошо чувствовать наше время, когда интерес к языку как к объекту растет по экспоненте. Вспомним хотя бы о беспрецедентном и перманентном словарном буме второй половины ХХ века. Мы так привыкли к словосочетанию «эксперимент со словом»,что как-то не отдаем себе отчета в том,что является предметом эксперимента: поиск лучшей формы выражения (новаторство), читательское терпение (эпатаж) или, наконец, само слово?
Риторический подход к языковым явлениям проявляется у Высоцкого на всех уровнях языка. На лексическом уровне - это тяга к исчерпыванию лексики и фразеологии той предметной области, за которую он берется. Если это шахматы, здесь будут и дебют , и старо-индийская защита , и гамбит , и вилка , и названия фигур (это притом,что оба стихотворения на эту тему - шуточные, а их герой - дилетант, который «королей путает с тузами»). Если это автомобильная дорога, тут будут и клапана , и вкладыши , и кювет , и стартер . И это не просто два-три профессионализма для создания соответствующего колорита. На уровне семантики - это почти обязательное обыгрывание семантического переноса, так называемая реализация тропа : «Вижу, он нацеливает вилку - // Хочет есть, - и я бы съел ферзя... // Под такой бы закусь - да бутылку!» /1; 306/.
На уровне грамматики - это, во-первых, раскрытие словообразовательных потенций (целое стихотворение, построенное на морфемном повторе недо- : недолетел , недоскакал , недолюбил , недораспробовал , недопригубил ); во-вторых, полиптоты (употребление одного слова в разных падежах) и другие случаи «опрокидывания» парадигмы в текст (колея , колее , колеей ); в-третьих, обязательная игра на отклонениях от нормы: контаминация, образование неправильных форм. Там, где только возможна ошибка, автор ее и воспроизводит с риторическим постоянством. Русскому языку не свойственно зияние, и слово «ООН» звучит для русского уха непривычно. И вот герой Высоцкого (типичное проявление гиперурбанизма) произносит: «О-О-ООН».
Таково же и отношение к рифме. Как и у Маяковского, у Высоцкого часто встречается каламбурная рифма (мужчина я - первобытнообщинныя ), используется панторим (Взорвано , уложено , сколото // Черное надежное золото /1; 253/ - каждое слово рифмуется), разнообразна внутренняя рифма, в том числе встречается теневая рифма, в которой рифмующиеся слова сближены до предела: говорят,что раньше йог мог . Чрезвычайно богата звукопись Высоцкого: здесь есть и звукоподражание, и звуковой символизм, и словесная инструментовка.
К слову поэт относится так же, как к мысли, чувству, образу: стремится дойти до предела и даже как бы выйти за предел, исчерпать его возможности. Но это не спонтанный и неизбежно односторонний порыв романтика. Это упорное и гармоничное риторическое мирочувствование с неизбывной дидактикой в содержании и неизбежной симметрией в форме. Вот уже сто лет, как и то, и другое почитается в литературе ретроградством. Однако Высоцкий, ярчайший носитель риторического мышления, не враждовавший с разумом и не стеснявшийся морали, собрал беспрецедентно большую и необыкновенно многообразную аудиторию. Заметим,что аудитория эта собралась не для того,чтобы смаковать жестокости и щекотать обоняние миазмами кошмаров, но во имя исключительно немодной штуки - любви к жизни.
В короткой статье невозможно даже бегло окинуть взором творчество такого яркого поэта, как Владимир Высоцкий. Цель статьи другая. Мне кажется,что в связи с рассмотренными выше чертами можно обозначить две линии исследования этого творчества. Первая связана с фольклорными (и низовыми литературными), а вторая - с книжными истоками поэзии Высоцкого. Первая - это прежде всего изучение двойничества, в частности в связи народно-смеховой культурой и традициями древнерусской демократической сатиры. (В этом же русле должна быть исследована трансформация жанра жестокого романса и воровской песни в лирике Высоцкого; в статье эта тема не поднималась.) Вторая - это прежде всего изучение риторики Высоцкого, усвоенной, по-видимому, и через наследование ораторских традиций Маяковского, и через работу в театре, ибо драматический текст, предназначенный для исполнения, стимулирует и рефлексию, и диалогизм, то есть именно риторическое мышление.
Примечания
Лихачев Д. С. Жизнь человека в представлении неизвестного автора ХVII века // Повесть о Горе-Злочастии. Л., 1985. С. 98.
Цит. по изд.: Высоцкий В. Сочинения: В 2 т. Екатеринбург, 1997. Т. 1. С. 211. Далее произведения Высоцкого цит. по этому изд. с указанием номеров тома и страницы в тексте. Варианты, отображенные в сборнике «Нерв», цит. по примечаниям того же издания.
Об этой особенности средневекового смеха см.: Лихачев Д. С. Смех как мировоззрение // Историческая поэтика русской литературы. СПб., 1997. С. 343.
История русской литературы Х-ХVII веков. М., 1980. С. 419.
Адрианова-Перетц В. П. К истокам русской сатиры // Русская демократическая сатира XVII века. М., 1977. С. 136-138.
Григорьев В. П. Паронимическая аттракция в русской поэзии XX в. // Доклады и сообщения лингвистического общества. Вып. 5. Калинин, 1975.
Окунь Я. Реплика в собственный адрес // Журналист. 1982. № 1.
Категория языковой личности активно разрабатывается в школе Ю. Н. Караулова. См., напр.: Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. Думается,что эта категория исключительно продуктивна для изучения современной ролевой лирики.
См.: Чуковский К. Живой как жизнь: Разговор о рус. яз. М., 1962. Гл. 6. На засорение языка канцелярскими штампами сетовал также К. Паустовский. См. также: Виноградов В. В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания // Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. М., 1981.
Бубер М. Я и Ты: Проблема человека. М., 1993.
Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 168.
О влиянии поэзии Владимира Маяковского на личность и творчество Высоцкого см.: Новиков Вл. И. Высоцкий Владимир Семенович // Новиков Вл. И. Заскок. М., 1997. С. 149-161.
Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка ХVII-ХIХ веков. М., 1982. С. 306-309.
Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Изв. РАН ОЛЯ. 1993. № 1.