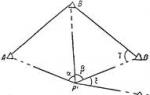Любовь наташи упорная терпеливая всякую. Любовь в жизни наташи ростовой - сочинения, рефераты, доклады. Национальные, народные черты в развитии характера Наташи
Григорий Яковлевич Бакланов (Фридман) (1923).
Источник: Григорий Бакланов, Избранные произведения в 2-х томах, том 1,
изд-во "Художественная литература", Москва, 1979.
OCR и вычитка: Александр Белоусенко ([email protected]), 18 марта
2002.
ПЯДЬ ЗЕМЛИ
Повесть
Моей матери
Иде Григорьевне Кантор
Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о
великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы
все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое
имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из
них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти
люди будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами!
Юлиус Фучик
ГЛАВА I
Жизнь на плацдарме начинается ночью. Ночью мы вылезаем из щелей и
блиндажей, потягиваемся, с хрустом разминаем суставы. Мы ходим по земле во
весь рост, как до войны ходили по земле люди, как они будут ходить после
войны. Мы ложимся на землю и дышим всей грудью. Роса уже пала, и ночной
воздух пахнет влажными травами. Наверное, только на войне так по-мирному
пахнут травы.
Над нами черное небо и крупные южные звезды. Когда я воевал на севере,
звезды там были сиповатые, мелкие, а здесь они нее яркие, словно отсюда
ближе до звезд. Дует ветер, и звезды мигают, свет их дрожит. А может быть,
правда, есть жизнь на какой-то из этих звезд?
Луна еще не всходила. Она теперь исходит поздно, на фланге у нeмцев, и
тогда у нас все освещается: и росный луг, и лес над Днестром, тихий и
дымчатый в лунном свете. Но скат высоты, на которой сидят немцы, долго еще в
тени. Луна осветит его перед утром.
Вот в этот промежуток до восхода луны к нам из-за Днестра каждую ночь
переправляются разведчики. Они привозят в глиняных корчажках горячую
баранину и во флягах - холодное, темное, как чернила, молдавское вино. Хлеб,
чаще ячменный, синеватый, удивительно вкусный в первый день. На вторые сутки
он черствеет и сыплется. Но иногда привозят кукурузный. Янтарно-желтые
кирпичики его так и остаются лежать на брустверах окопов. И уже кто-то
пустил шутку:
- Выбьют нас немцы отсюда, скажут: вот русские хорошо живут - чем
лошадей кормят!..
Мы едим баранину, запиваем ледяным вином, от которого ломит зубы, и в
первый момент не можем отдышаться: небо, горло, язык - все жжет огнем. Это
готовил Парцвания. Он готовит с душой, а душа у него горячая. Она не
признает кушаний без перца. Убеждать его бессмысленно. Он только укоризненно
смотрит своими добрыми, маслеными и черными, как у грека, круглыми глазами:
"Ай, товарищ лейтенант! Помидор, молодой барашек - как можно без перца?
Барашек любит перец".
Пока мы едим, Парцвания сидит тут же на земле, по-восточному поджав под
себя полные ноги. Он острижен под машинку. Сквозь отросший ежик волос на его
круглой загорелой голове блестят бисеринки пота. И весь он небольшой,
приятно полный - почти немыслимый случай на фронте. Даже в мирное время
считалось: кто пришел в армию худой - поправится, пришел полный - похудеет.
Но Парцвания не похудел и на фронте. Бойцы зовут его "батоно Парцвания":
мало кто знает, что в переводе с грузинского "батоно" означает господин.
До войны Парцвания был директором универмага где-то в Сухуми, Поти или
Зугдиди. Сейчас он связист, самый старательный. Когда прокладывает связь,
взваливает на себя по три катушки сразу и только потеет под ними и таращит
свои круглые глаза. Но на дежурстве спит. Засыпает он незаметно для самого
себя, потом всхрапывает, вздрогнув, просыпается. Испуганно оглядывается
вокруг мутным взглядом, но не успел еще другой связист папироску свернуть,
как Парцвания опять уже спит.
Мы едим баранину и хвалим. Парцвания приятно смущается, прямо тает от
наших похвал. Не похвалить нельзя: обидишь. Так же приятно смущается он,
когда говорит о женщинах. Из его деликатных рассказов, в общем, можно
понять, что у них в Зугдиди женщины не признавали за его женой монопольного
права на Парцванию.
Что-то долго сегодня нет ни Парцвании, ни разведчиков. Мы лежим на
земле и смотрим на звезды: Саенко, Васин и я. У Васина от солнца и волосы, и
брови, и ресницы выгорели, как у деревенского парнишки. Саенко зовет его
"Детка" и держится покровительственно. Он самый ленивый из всех моих
разведчиков. У него круглое лицо, толстые губы, толстые икры ног.
Сейчас он рядом со мной лениво потягивается на земле всем своим большим
телом. Я смотрю на звезды. Интересно, понимал ли я до войны, какое
удовольствие вот так бездумно лежать и смотреть на звезды?
У немцев ударил миномет. Слышно, как над нами в темноте проходит мина.
Разрыв в стороне берега. Мы как раз между батареей и берегом. Если
прочертить мысленно траекторию, мы окажемся под ее высшей точкой.
Удивительно хорошо потягиваться после целого дня сидения в окопе. Каждый
мускул ноет сладко.
Саенко поднимает руку над глазами, смотрит на часы. Они у него большие,
со множеством зеленых светящихся стрелок и цифр, так что мне со стороны
можно разглядеть время.
- Долго не идут, черти,- говорит он своим тягучим голосом.- Жрать
хочется, аж тошнит! - И Саенко сплевывает в пыльную траву.
Скоро взойдет луна: у немцев уже заметно светлеет за гребнем. А миномет
все бьет, и мины ложатся по дороге, по которой должны сейчас идти к нам
разведчики и Парцвания. Мысленно я вижу ее всю. Она начинается у берега, в
том месте, где мы с лодок впервые высадились на этот плацдарм. И начинается
она могилой лейтенанта Гривы. Помню, как он, охрипший от крика, с ручным
пулеметом в руках, бежал вверх по откосу, увязая сапогами в осыпающемся
песке. На самом верху, под сосной, где его убило миной, теперь могила.
Отсюда песчаная дорога сворачивает в лес, а там - безопасный участок. Дорога
петляет среди воронок, но это не прицельный огонь, немец бьет вслепую, по
площади, даже днем не видя своих разрывов.
В одном месте на земле лежит неразорвавшийся реактивный снаряд нашего
"андрюши", длинный, в рост человека, с огромной круглой головой. Он упал
здесь, когда мы были еще за Днестром, и теперь начал ржаветь и зарастать
травой, но всякий раз, когда идешь мимо него, становится жутковато и весело.
В лесу обычно перекуривают, прежде чем идти дальше, последние шестьсот
метров по открытому месту. Наверное, сидят сейчас разведчики и курят, а
Парцвания торопит их. Он боится, что остынет баранина в глиняных корчажках,
и потому укутывает корчажки одеялами, обвязывает веревками. Собственно, он
мог бы не ходить сюда, но он не доверяет никому из разведчиков и сам каждый
раз конвоирует баранину. К тому же он должен видеть, как ее будут есть.
Луна одним краем показалась уже из-за гребня. В лесу сейчас черные тени
деревьев и полосами дымный лунный свет. Капли росы зажигаются в нем, и
пахнет повлажневшими лесными цветами и туманом; он скоро начнет подниматься
из кустов. Хорошо сейчас идти по лесу, пересекая тени и полосы лунного
света...
Саенко приподнимается на локте. Какие-то трое идут в нашу сторону.
Может быть, разведчики? До них метров сто, но мы не окликаем их: на
плацдарме ночью никого не окликают издали. Трое доходят до поворота дороги,
и сейчас же рассыпавшаяся стайка красных пуль низконизко проносится над их
головами. С земли нам это хорошо видно.
Саенко опять ложится на спину.
- Пехота...
Позавчера это самое место днем, на "виллисе" пытался проскочить
пехотный шофер. Под обстрелом он резко крутанул на повороте дороги и вывалил
полковника. Пехотинцы кинулись к нему, немцы ударили из минометов, наша
дивизионная артиллерия отвечала, и полчаса длился обстрел, так что под конец
все перемешалось, и за Днестром прошел слух, что немцы наступают. Вытащить
"виллис" днем, конечно, не удалось, и до ночи немцы тренировались по нему из
пулеметов, как по мишени, всаживая очередь за очередью, пока не подожгли
наконец. Мы после гадали: пошлют шофера в штрафную роту или не пошлют?
Луна поднимается еще выше, вот-вот оторвется от гребня, а разведчиков
все нет. Непонятно. Наконец появляется Панченко, ординарец мой. Издали вижу,
что он идет один и в руке несет что-то странное. Подходит ближе. Унылое
лицо, в правой руке на веревке - горлышко глиняной корчажки.
Панченко угрюмо стоит перед нами, а мы сидим на земле, все трое, и
молчим. Становится вдруг так обидно, что я даже не говорю ничего, а только
смотрю на Панченко, на этот черепок у него в руках - единственное, что
уцелело от корчажки. Развeдчики тоже молчат.
Мы целый день прожили всухомятку, и до следующей ночи нам уже никто
ничего не принесет: мы едим по-настоящему раз в сутки. А завтра опять целый
день обстрел, слепящее солнце в стекла стереотрубы, жара, и кури, кури в
своей щели до одурения, разгоняя дым рукой, потому что на плацдарме немец и
по дыму бьет.
- Какой дурак придумал носить мясо в корчажках? - спрашиваю я.
Панченко смотрит на меня укоризненно:
- Парцвания велел, чего ж вы ругаетесь? Он говорил, в глиняной посуде
не так остывает. Еще одеялами их укутывал...
- А где он сам?
- Убило Парцванию...
Панченко кладет перед нами круглый ячменный хлеб, отцепляет от пояса
фляжки с вином, сам садится в стороне, один, пожевывая травинку.
Оттого что мы день прожили всухомятку, вино сразу мягко туманит голову.
Мы жуем хлеб и думаем о Парцвании. Его убило, когда он нес нам свои
корчажки, завязанные в одеяла, чтоб - не дай бог! - в них не остыло за
дорогу. Обычно он сидел вот здесь, по-восточному поджав полные ноги, и, пока
мы ели, смотрел на нас своими добрыми, маслеными и черными, как у грека,
круглыми глазами, то и дело вытирая сильно потевшую после ходьбы загорелую
голову. Он ждал, когда мы начнем хвалить.
- Тебя не ранило? - спрашиваю я Панченко. Тот обрадованно пододвигается
к нам.
- Вот! - показывает он штанину, у кармана навылет пробитую осколком, и
для убедительности продевает сквозь две дыры палец. И вдруг, спохватившись,
поспешно достает из кармана завернутый в тряпочку желтый листовой табак. -
Чуть было не забыл совсем.
Мы крошим в ладонях сухие, невесомые листья, стараясь не прoсыпать
табак. Вдруг я замечаю у себя на ладони кровь и прилипшую к ней табачную
пыль. Откуда она? Я не ранен, я только резал хлеб. На нижней корке хлеба
тоже кровь. Все смотрят на нее. Это кровь Парцвании.
- Где вас накрыло? - спрашивает Саенко. Вместе со словами табачный дым
идет у него изо рта: он всегда глубоко затягивается.
- В лесу. Как раз где снаряд "андрюши" лежит. Вот так мы шли, вот так
он лежит.- Панченко чертит все это на земле.- Вот здесь мина упала. А
Парцвания как раз с той стороны шел.
Это та самая минометная батарея, которую мы никак не можем засечь.
Ночью мы лежим с Васиным в одной щели. Саенко я отправил вместе с
Панченко. Надо донести Парцванию до лодки, надо переправить его на ту
сторону.
Щель узкая, но внизу, у самого дна, мы подрыли ее с боков, так что
вполне можно спать вдвоем. Ночи все же холодные, а вдвоем даже под
плащ-палаткой тепло. Трудно только переворачиваться на другой бок. Пока один
переворачивается, второй стоит на четвереньках. Но больше подрыть нельзя,
иначе снарядом может обрушить щель.
Через равные промежутки бьет тяжелая немецкая батарея, наши отвечают
из-за Днестра через нас. Почему-то под землей разрывы всегда кажутся
близкими. Это так называемый тревожащий огонь, всю ночь, до утра. Интересно,
до войны люди страдали бессонницей, жаловались: "Целую ночь не мог уснуть: у
нас под полом скребется мышь". А сверчок, так тот был целым бедствием. Мы
каждую ночь спим под артиллерийским обстрелом и просыпаемся от внезапной
тишины.
Я лежу сейчас и думаю о Парцвании, о хлебе, на котором осталась его
кровь. Перед самой войной, когда я учился в десятом классе, был у нас вечер
и нам бесплатно раздавали булочки с колбасой. Они были свежие, круглые,
разрезанные наискось через верхнюю корку, и туда вставлено по толстому
розовому куску любительской колбасы. Пока нам их раздавали, директор школы
стоял рядом с буфетчицей, гордый: это была его инициатива.
Мы съели колбасу, а булочки после валялись во всех углах, за урнами,
под лестницей. Мне вспоминается это сейчас как преступление.
Васин спит, посапывая. Мне хочется закурить, но табак у меня в правом
кармане, а мы лежим на правом боку. Каждый раз, когда всплывает немецкая
ракета, я вижу заросшую шею Васина и маленькое раскрасневшееся во сне ухо.
Странно, у меня к нему почему-то почти отцовское чувство.
ГЛАВА II
Жарко. Против солнца все как в дыму. Горячий воздух дрожит над ближними
высотами, они пустынны, будто вымершие. Там - немецкий передний край.
Пехотинцы отсыпаются за ночь, скорчившись на днe окопов, сунув руки в
рукава шинелей. Каждую ночь они, как кроты, роют ходы сообщения, соединяют
окопы в траншеи, а когда будет построена прочная оборона, все придется
бросать и переходить на новое место. Это уже проверено.
Немцы тоже спят. Только наблюдатели с обеих сторон высматривают, где
шевелится живое. Редко простучит пулемет - сухие вспышки его почти не видны
против солнца,- и опять тишина. Дым разрыва подолгу плывет над передовой в
знойном воздухе.
Позади нас за лесом - Днестр, весь залитый солнцем. Хорошо бы сейчас
искупаться в Днестре. Но на войне другой раз сидишь у воды и не то что
искупаться - напиться до ночи не можешь. На белых песчаных отмелях Днестра
не найдешь сейчас следа босой пятки. Только следы сапог, следы колес,
уходящие в воду, и воронки разрывов. А выше по берегу, среди виноградников,
наливающихся теплым соком, греются на припеке молдавские хутора, днем
безлюдные. Над ними зной и тишина. Все это позади нас.
Я смотрю на пологие высоты в стереотрубу, смотрю каждый день до
тошноты. Эх, как они нужны нам! Если бы мы их взяли, здесь сразу
переменилась бы вся жизнь. Васин тем временем готовит завтрак. Взрезал ножом
банку свиной тушенки, поставил на бруствер, лезвие вытирает о штаны. Мы едим
ее ложками, намазывая на хлеб. Едим не спеша: впереди целый день, а банка
последняя. И оставлять мы тоже не любим.
Где-то близко слышны голоса. Я поворачиваю стереотрубу. Два пехотинца
идут по полю с винтовками за плечами и разговаривают. Вот так просто идут
себе и разговаривают, как будто ни немцев, ни войны на свете. Конечно,
недавно мобилизованные, из-за Днестра. У этих удивительная особенность: где
никакой опасности - перебегают, прячутся от каждого снаряда, летящего мимо,
падают на землю - вот она, смерть! А где все живое носа не высунет - ходят в
полный рост. Я однажды видел, как вот такой, только что присланный на фронт
солдат, смелый по глупости, шел по минному полю в тылу у нас и рвал ромашки.
Опытный, повоевавший пехотинец с умом не пройдет там, а этот ставил ногу, не
выбирая места, и ни одна мина не взорвалась под ним. Метра два оставалось до
края минного поля, когда ему крикнули. И он, поняв, где находится, больше
уже шагу ступить не смог. Пришлось его оттуда снимать.
- Мало их, дураков, учит! - злится Васин.
Мы оба, бросив есть, следим за пехотинцами. Кто-то крикнул им из своего
окопа. Они вовсе стали на открытом мeсте, на жаре, оглядываются: не поймут,
откуда был голос. И немец почему-то не стреляет. От нас до них - метров
тридцать; пройдут еще немного, и утренние длинные тени обоих головами
достанут до нашего бруствера. Так и не поняв, кто звал их, пошли.
- Эй, кумовья, бегом! - не выдержав, кричит Васин.
Опять стали. Обе головы повернулись на голос в нашу сторону. Изменив
направление, идут теперь к нам. Васин даже высунулся:
- Бегом, мать вашу!..
Я едва успеваю сдернуть его за ремень. Грохот! Сверху на нас рушится
земля. Зажмурившись, сидим на дне окопа. Разрыв! Сжались. Еще разрыв! Над
нами проносит дым. Живы, кажется!.. В первый момент мы не можем отдышаться,
только глядим друг на друга и улыбаемся, как мальчишки: живы!
- Вот сволочь! - говорю я.
Васин грязным платком вытирает лицо, оно у него все в земле. Смотрит
мне на колено, глаза становятся испуганными. Смотрит на мой сапог, на землю
и поднимает перевернутую банку тушенки. Там все перемешалось с песком. На
колене у меня тает белый жир, по пыльному голенищу сапога ползет вниз кусок
мяса, оставляя сальный след. Берегли... Ели не спеша...
- Таких убивать надо! - Васин зло швырнул банку.- Воевать не умеют,
только других демаскируют.
И тут мы слышим стон. Жалкий такой, будто не взрослый человек стонет, а
ребенок. Мы высовываемся осторожно. Один пехотинец лежит неподвижно, ничком,
на неловко подогнутой руке, плечом зарывшись в землю. До пояса он весь
целый, а ниже - черное и кровь, и ботинки с обмотками. на белом расщепленном
прикладе винтовки тоже кровь. И тень от него на земле стала короткая, вся
рядом с ним.
Другой пехотинец шевелится, ползет. Это он стонет. Мы кричим ему, но он
ползет в другую сторону.
- Пропадет, дурак,- быстро говорит Васин и зачем-то начинает снимать
сапоги, надавливая носком на задник. Босиком, скинув ремень, приготовился
ползти за раненым.
Но из другого окопа высовывается рука и втягивает раненого под землю.
Оттуда стоны слышны глуше. Винтовка его так и остается на поле.
И опять тишина и зной. Растаял дым разрывов. Жирное пятно у меня на
колене стало огромным и грязным. Я глянул на убитого в стереотрубу. Свежая
кровь блестит на солнце, и на нее уже липнут мухи, роятся над ним. Здесь, на
плацдарме, великое множество мух.
От огорчения, что не удалось позавтракать, Васин берется за трофейный
телефонный аппарат, что-то чинит в нем. Он сидит на дне окопа, поджав под
себя босые ноги. Голова наклонена, шея мускулистая, загорелая. Ресницы у
него длинные, выгоревшие на концах, а уши по-мальчишески оттопырены и
тяжелые от прилившей крови. Потные волосы зачесаны под пилотку - отрастил
чуб под моей мягкой рукой.
Я люблю смотреть на него, когда он работает. У него не по возрасту
крупные, умелые руки. Они редко бывают без дела. Если рассказывают анекдот,
Васин, подняв от работы глаза, слушает напряженно; на чистом лбу его
обозначается одна-единствсииая морщина между бровей. И когда анекдот кончен,
он все еще ждет, надеясь узнать нечто поучительное, что можно было бы
применить к жизни.
- Ты кем был до войны, Васин?
- Я? - переспрашивает он и поднимает на меня карие, позолоченные
солнцем глаза с синеватыми белками.- Жестянщик.
Потом подносит к лицу ладони, нюхает их:
- Вот уже не пахнут, а то все, бывало, жестью пахли.
И улыбается грустно и умудренно: война. Обдирая зубами изоляцию с
провода, говорит:
- Сколько на войне всякого добра пропадает, так это привыкнуть
невозможно.
Опять бьет немецкая минометная батарея, та самая, но теперь разрывы
ложатся левей. Это она била с вечера. Шарю, шарю стереотрубой - ни вспышки,
ни пыли над огневыми позициями - все скрыто гребнем высот. Кажется, руку бы
отдал, только б уничтожить ее. Я примерно чувствую место, где она стоит, и
уже несколько раз пытался eе уничтожить, но она меняет позиции. Вот если бы
высоты были наши! Но мы сидим в кювете дороги, выставив над собой
стереотрубу, и весь наш обзор - до гребня.
Мы вырыли этот окоп, когда земля была еще мягкая. Сейчас дорога,
развороченная гусеницами, со следами ног, колес по свежей грязи, закаменела
и растрескалась. Не только мина - легкий снаряд почти не оставляет на ней
воронки: так солнце прокалило ее.
Когда мы высадились на этот плацдарм, у нас не хватило сил взять
высоты. Под огнем пехота залегла у подножия и спешно начала окапываться.
Возникла оборона. Она возникла так: упал пехотинец, прижатый пулеметной
струей, и прежде всего подрыл землю под сердцем, насыпал холмик впереди
головы, защищая ее от пули. К утру на этом месте он уже ходил в полный рост
в своем окопе, зарылся в землю - не так-то просто вырвать его отсюда.
Из этих окопов мы несколько раз поднимались в атаку, но немцы опять
укладывали нас огнем пулеметов, шквальным минометным и артиллерийским огнем.
Мы даже не можем подавить их минометы, потому что не видим их. А немцы с
высот просматривают и весь плацдарм, и переправу, и тот берег. Мы держимся,
зацепившись за подножие, мы уже пустили корни, и все же странно, что они до
сих пор не сбросили нас в Днестр. Мне кажется, будь мы на тех высотах, а они
здесь, мы бы уже искупали их.
Даже оторвавшись от стереотрубы и закрыв глаза, даже во сне я вижу эти
высоты, неровный гребень со всеми ориентирами, кривыми деревцами, воронками,
белыми камнями, проступившими из земли, словно это обнажается вымытый ливнем
скелет высоты.
Когда кончится война и люди будут вспоминать о ней, наверное, вспомнят
великие сражения, в которых решался исход войны, решались судьбы
человечества. Войны всегда остаются в памяти великими сражениями. И среди
них не будет места нашему плацдарму. Судьба его - как судьба одного
человека, когда решаются судьбы миллионов. Но, между прочим, нередко судьбы
и трагедии миллионов начинаются судьбой одного человека. Только об этом
забывают почему-то.
С тех пор как мы начали наступать, сотни таких плацдармов захватывали
мы на всех реках. И немцы сейчас же пытались сбросить нас, а мы держались,
зубами, руками вцепившись в берег. Иногда немцам удавалось это. Тогда, не
жалея сил, мы захватывали новый плацдарм. И после наступали с него.
Я не знаю, будем ли мы наступать с этого плацдарма. И никто из нас не
может знать этого. Наступление начинается там, где легче прорвать оборону,
где есть для танков оперативный простор. Но уже одно то, что мы сидим здесь,
немцы чувствуют и днем и ночью. Недаром они дважды пытались скинуть нас в
Днестр. И еще попытаются.
Теперь уже все, даже немцы, знают, что война скоро кончится. И как она
кончится, они тоже знают. Наверное, потому так сильно в нас желание выжить.
В самые трудные месяцы сорок первого года, в окружении, за одно то, чтобы
остановить немцев перед Москвой, каждый, не задумываясь, отдал бы жизнь. Но
сейчас вся война позади, большинство из нас увидит победу, и так обидно
погибнуть в последние месяцы.
В мире творятся великие события. Вышла Италия из войны. Высадились
наконец союзники во Франции делить победу. Все лето, пока мы сидим на
плацдарме, один за другим наступают фронты севернее нас. Значит, скоро и
здесь что-то начнется.
Васин кончил чинить аппарат, любуется своей работой. В окопе - косое
солнце и тень. Разложив на голенищах портянки, протянув босые ноги, Васин
шевелит пальцами под солнцем, смотрит на них.
- Давайте подежурю, товарищ лейтенант.
- Обожди...
Мне показалось, что над немецкими окопами возник желтый дымок. В
стереотрубу, приближенный увеличительными стеклами, хорошо виден травянистый
передний скат высоты, желтые извилистые отвалы траншей.
Опять в том жe месте возникает над бруствером летучий желтый дымок.
Роют! Какой-то немец роет средь бела дня. Блеснула лопата. Лопаты у них
замечательные, сами идут в грунт. Вровень с бруствером пошевелилась серая
мышиная кепка. Тесно ему копать. А каску от жары снял.
- Вызывай Второго!
- Стрелять будем? - оживляется Васин и, сидя перед телефоном на своих
босых пятках, вызывает.
Второй - это командир дивизиона. Он сейчас на той стороне Днестра, в
хуторе. Голос по-утреннему хрипловатый. И - строг. Спал, наверное. Окна
завешены одеялами, от земляного пола, побрызганного водой, прохладно в
комнате, мух ординарец выгнал - можно спать в жару. А снарядов, конечно, не
даст. Я иду на хитрость:
- Товарищ Второй, обнаружил немецкий артиллерийский НП!
Скажи просто: "Обнаружил наблюдателя",- наверняка не разрешит стрелять.
- Откуда знаешь, что это - артиллерийский НП? - сомневается Яценко. И
тон уже мрачный, раздраженный оттого, что надо принимать какое-то решение.
- Засек стереотрубу по блеску стекол! - вру я честным голосом. А может
быть, я и не вру. Может быть, он кончит рыть и установит стереотрубу.
- Значит НП, говоришь?
Яценко колеблется.
Уж лучше не надеяться. А то потом вовсе обидно. Что за жизнь, в самом
деле! Сидишь на плацдарме - голову высунуть нельзя, а обнаружил цель, и тебе
снарядов нe дают. Если бы немец меня обнаружил, он бы не стал спрашивать
разрешения. Этой ночью уже прислали б сюда другого командира взвода.
- Три снарядика, товарищ Второй,- спешу я, пока он еще не передумал, и
голос мой мне самому противен в этот момент.
- Расхвастался! Воздух сотрясать хочешь или стрелять? - злится вдруг
Яценко.
И черт меня дернул выскочить с этими тремя снарядами. Все в полку
знают, что Яценко стреляет неважно. И грамотный, и подготовку данных знает,
но, как говорится, если таланта нет, это надолго. Однажды он пристреливал
цель, израсходовал восемь снарядов, но так и не увидел своего разрыва. С тех
пор Яценко всегда держит на своем НП одного из комбатов на случай, если
придется стрелять. С ним всегда так: хочешь лучше сделать, а наступаешь на
больную мозоль.
- Так вы ж больше не дадите, товарищ комдив! - оправдываюсь я поспешно.
Это хитрость, непонятная человеку штатскому. Командир дивизии и командир
артиллерийского дивизиона сокращенно звучит одинаково: "комдив", хотя
дивизией командует полковник, а то и генерал, а дивизионом - в лучшем случае
майор. Яценко любит, когда его называют сокращенно и звучно: "Товарищ
комдив". И я иду на эту хитрость, как бы забыв, что по телефону не положены
ни звания, ни должности - есть только позывные.
- Тебе что, мой позывной неизвестен? - обрывает Яценко. Но слышно по
голосу - доволен. Это - главное.
Что угодно говорить, лишь бы снарядов дал. Мне начинает казаться -
Образ Наташи Ростовой в романе-эпопее Толстого «Война и мир»
В романе «Война и мир» Л.Н. Толстой использует прием антитезы, противопоставляя настоящую жизнь - фальшивой, истинные жизненные ценности - ложным, внутреннюю красоту - внешней. Олицетворением внешней красоты и внутренней пустоты является в романе Элен Безухова, воплощением же внутренней красоты, жизни, любви - Наташа Ростова.
Наташа - любимая героиня Толстого. Она покоряет читателя своей искренностью, непосредственностью, жизнелюбием, поэтичностью, богатством внутреннего мира. «Поэтической, преисполненной жизнью, прелестной девушкой» называет ее Андрей Болконский. Впервые мы встречаемся с Наташей в доме
Ростовых, она предстает перед нами тринадцатилетней девочкой, совсем юной, трогательной, непосредственной. «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками… с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка». Мы видим, как Наташа взрослеет, едет на свой первый бал, переживает свою первую любовь.
Эта героиня очень непосредственна, близка к природе. Она восхищается красотой лунной ночи в Отрадном, очень органична в сцене охоты.
Наташа очень музыкальна, романтична. Она прекрасно поет, тонко чувствует музыку, ее пением восхищается Денисов. А пляска Наташи, в которой раскрывается вся ее русская душа? Эта пляска приводит в восторг и дядюшку, и Николая, и тетку Анисью, которые вдруг понимают, что эта юная девочка «умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисье, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке».
Наташа близка к народу. Во время отъезда из Москвы она просит родителей отдать подводы раненым солдатам. «Люди собирались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф от имени своей жены не подтвердил приказания о том, чтобы выдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые».
Главное качество этой героини - ее любовь к людям, эмоциональность, человечность. Из всех героинь романа она более всех наделена «способностью чувствовать оттенки интонаций, взглядов и выражений лиц». Наташе не свойственна нравственная рефлексия, глубокие раздумья о смысле жизни. «Она не удостаивает быть умной», - замечает Пьер. Однако Наташа наделена «умом сердца». Она тонко чувствует людей, понимает их. Так, она интуитивно чувствует фальшивую, подлую натуру Бориса Трубецкого, Берга. И наоборот, ей с самого начала симпатичен Пьер Безухов.
В романе Наташа Ростова словно олицетворяет собой саму природу и любовь. Стремление к любви, жизнь чувствами - это главное в ее натуре. Отсюда все ее ошибки, побег с Анатолем
Курагиным. Однако эта любовь не эгоистична, она распространяется на всех близких ей людей. Так, в трудную минуту Наташа становится опорой для матери. «Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню».
В финале мы видим Наташу женой Пьера, матерью большого семейства. Она утратила свое прежнее очарование. «Все, знавшие Наташу до замужества, удивлялись происшедшей в ней перемене, как чему-то необыкновенному.. Одна мать удивлялась удивлению людей, не понимавших Наташи, и повторяла, что она всегда знала, что Наташа будет примерной женой и матерью…». Однако натура героини не изменилась, любовь по-прежнему составляет для нее смысл жизни.
Таким образом, Л.Н. Толстой с большой симпатией рисует эту героиню. В образе Наташи Ростовой писатель выражает свой идеал женщины в качестве жены и матери. И этот образ неизменно привлекает читателей.
Здесь искали:
- Образ Наташи Ростовой в романе Война и мир
- образ наташи ростовой в романе война и мир кратко
- образ наташи ростовой в романе война и мир сочинение
После смерти князя Андрея, Наташа Ростова и княжна Марья, объединенные общим горем, стали еще ближе.
Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений... Только вдвоем им было не оскорбительно и не больно. Они мало говорили между собой. Ежели они говорили, то о самых незначительных предметах. И та и другая одинаково избегали упоминания о чем-нибудь, имеющем отношение к будущему... Но чистая, полная печаль так же невозможна, как чистая и полная радость.
Княжна Марья первая вышла из печального состояния - нужно было заниматься воспитанием племянника. Алпатыч, приехав в Москву по делам, предложил княжне переехать в Москву, во Вздвиженский дом. Как ни тяжело было княжне Марье покидать Наташу, она чувствовала необходимость включаться в дела, и начала готовиться к переезду в Москву. Наташа, оставшаяся в своем горе одна, замкнулась в себе и стала избегать княжну. Марья предложила графине отпустить с собой Наташу в Москву, и родители с радостью согласились. Наташа с каждым днем становилась все слабее, и они считали, что смена места пойдет ей на пользу. Однако Наташа отказалась ехать с княжной и попросила близких оставить ее в покое. Она была убеждена в том, что должна оставаться там, где доживал последние дни князь Андрей.
В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери... Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни... Но в ту минуту, как уж ей открывалось, казалось, непонятное «...», с испуганным, не занятым ею, выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша... Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче, о несчастии, но не поняла их...
«Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие? У них все свое старое, привычное и покойное», - мысленно сказала себе Наташа.
Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое, мягкое лицо...
Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью на почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери.
Графиня лежала на кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки...
Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила...
Наташа, его нет, нет больше! - И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать...
Княжна Марья отложила свой отъезд. Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, - говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокаивал графиню. Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни - старухой. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни...
Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни - любовь - еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.
Новое несчастье еще больше сблизило княжну Марью и Наташу. Отложив свой отъезд, княжна Марья три недели ухаживала за Наташей как за больным ребенком.
Однажды княжна Марья, в середине дня, заметив, что Наташа дрожит в лихорадочном ознобе, увела ее к себе и уложила на своей постели. Наташа легла, но когда княжна Марья, опустив сторы, хотела выйти, Наташа подозвала ее к себе.
Наташа лежала в постели и в полутьме комнаты рассматривала лицо княжны Марьи...
Маша, - сказала она, робко притянув к себе ее руку. - Маша, ты не думай, что я дурная. Нет? Маша, голубушка. Как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями.
И Наташа, обнимая, стала целовать руки и лицо княжны Марьи. Княжна Марья стыдилась и радовалась этому выражению чувств Наташи.
С этого дня между княжной Марьей и Наташей установилась та страстная и нежная дружба, которая бывает только между женщинами. Они беспрестанно целовались, говорили друг другу нежные слова и большую часть времени проводили вместе. Если одна выходила, то другая была беспокойна и спешила присоединиться к ней. Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем порознь, каждая сама с собою. Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба: это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга.
Иногда они молчали целые часы; иногда, уже лежа в постелях, они начинали говорить и говорили до утра. Они говорили большей частию о дальнем прошедшем. Княжна Марья рассказывала про свое детство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтания; и Наташа, прежде с спокойным непониманием отворачивавшаяся от этой жизни, преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанной любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни. Она не думала прилагать к своей жизни покорность и самоотвержение, потому что она привыкла искать других радостей, но она поняла и полюбила в другой эту прежде непонятную ей добродетель. Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о детстве и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вера в жизнь, в наслаждения жизни.
Наташа постепенно возвращалась к жизни, ее душевная рана заживала.
В конце января княжна Марья уехала в Москву, и граф настоял на том, чтобы Наташа ехала с нею, с тем чтобы посоветоваться с докторами о своем здоровье.
Многие современники и историки обвиняли Кутузова за его ошибки и его поражение под Красным и под Березиной.
Государь был недоволен им... Такова судьба не великих людей «...», которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за прозрение высших законов.
Кутузов был противником того, чтобы идти дальше за границу. Он считал, что дальнейшая война вредна и бесполезна, что за десять французов он не отдаст и одного русского. Именно этим он и навлек на себя немилость Александра и большинства придворных.
Простая, скромная, и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история. Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея свое понятие о величии.
5 ноября, в первый день Красненского сражения, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, где в тот момент находилась его главная квартира.
Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных чем попало пленных гудела говором, стоя на дороге... При приближении главнокомандующего говор затих, и все глаза уставились на Кутузова «...», который медленно двигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные...
Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько секунд и, видимо неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них.
Благодарю всех! - сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова. - Благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки!
8 ноября - последний день Красненских сражений. Русские войска пришли на место ночлега, когда уже началось смеркаться. Расположившись в лесу, солдаты занялись своими делами.
Казалось бы, что в тех, почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, - без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при 18° мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, - казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище.
Напротив, никогда, в самых лучших материальных условиях, войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило оттого, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: оставался один цвет войска - по силе духа и тела.
Со стороны леса показались две оборванные фигуры.
Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе, и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что-то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки.
Ослабевший французский офицер был Рамбаль; повязанный платком - его денщик Морель.
Ослабевшего Рамбаля солдаты отнесли в избу, а Мореля посадили у костра и накормили. Когда захмелевший француз, обняв одной рукой за шею русского солдата, запел французскую песню, русские, стараясь подражать, стали подпевать по-французски.
29 ноября Кутузов въехал в Вильно - в свою добрую Вильну, как он говорил. Два раза в свою службу Кутузов был в Вильне губернатором. В богатой уцелевшей Вильне, кроме удобств жизни, которых так давно уже он был лишен, Кутузов нашел старых друзей и воспоминания. И он, вдруг отвернувшись от всех военных и государственных забот, погрузился в ровную, привычную жизнь настолько, насколько ему давали покоя страсти, кипевшие вокруг него, как будто все, что совершалось теперь и имело совершиться в историческом мире, нисколько его не касалось...
В Вильне Кутузов, в противность воле государя, остановил большую часть войск. Кутузов, как говорили его приближенные, необыкновенно опустился и физически ослабел в это свое пребывание в Вильне. Он неохотно занимался делами по армии, предоставляя все своим генералам и, ожидая государя, предавался рассеянной жизни...
Государь 11-го декабря приехал в Вильну и в дорожных санях прямо подъехал к замку. У замка, несмотря на сильный мороз, стояло человек сто генералов и штабных офицеров в полной парадной форме и почетный караул Семеновского полка.
Через минуту толстая большая фигура старика, в полной парадной форме, со всеми регалиями, покрывавшими грудь, и подтянутым шарфом брюхом, перекачиваясь, вышла на крыльцо. Кутузов надел шляпу по фронту, взял в руки перчатки и бочком, с трудом переступая вниз ступеней, сошел с них и взял в руку приготовленный для подачи государю рапорт... Государь быстрым взглядом окинул Кутузова с головы до ног, на мгновенье нахмурился, но тотчас же, преодолев себя, подошел и, расставив руки, обнял старого генерала. Опять по старому, привычному впечатлению и по отношению к задушевной мысли его, объятие это, как и обыкновенно, подействовало на Кутузова: он всхлипнул...
Оставшись наедине с фельдмаршалом, государь высказал ему свое неудовольствие за медленность преследования, за ошибки в Красном и на Березине и сообщил свои соображения о будущем походе за границу. Кутузов не делал ни возражений, ни замечаний. То самое покорное и бессмысленное выражение, с которым он, семь лет тому назад, выслушивал приказания государя на Аустерлицком поле, установилось теперь на его лице.
Александр наградил Кутузова Георгием первой степени, однако все прекрасно понимали, что эта процедура означала лишь соблюдение приличий, что на самом деле «старик виноват и никуда не годится». Государь был недоволен Кутузовым еще и потому, что главнокомандующий не понимал, зачем нужно идти в Европу, указывая на то, что набрать новые войска будет очень сложно, открыто заявлял о тяжелом положении населения.
При таком положении дел Кутузов был «помехой и тормозом предстоящей войны». Чтобы устранить столкновения со стариком, штаб был переформирован, вся власть Кутузова уничтожена и передана государю. Распространялись слухи, что состояние здоровья фельдмаршала совсем плохое.
Представителю русского народа, после того, как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую ступень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти.
И Кутузов умер.
Пьер после освобождения из плена приехал в Орел, на третий день после своего приезда заболел и по причине болезни пробыл в Орле три месяца.
С ним сделалась, как говорят доктора, желчная горячка. Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все-таки выздоровел...
Все, что было с Пьером со времени освобождения и до болезни, не оставило в нем почти никакого впечатления. Он помнил только серую, мрачную, то дождливую, то снежную погоду, внутреннюю физическую тоску, боль в ногах, в боку; помнил общее впечатление несчастий, страданий людей; помнил тревожившее его любопытство офицеров, генералов, расспрашивавших его, свои хлопоты о том, чтобы найти экипаж и лошадей, и, главное, помнил свою неспособность мысли и чувства в то время. В день своего освобождения он видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. И в тот же день Денисов, сообщивший эту новость Пьеру, между разговором упомянул о смерти Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно.
Выздоравливая, Пьер постепенно привыкал к прежней жизни. Но во сне он еще долго видел себя все в тех же условиях плена. Понемногу Пьер начинал понимать те новости, которые он узнал после освобождения из плена: смерть князя Андрея, смерть жены, уничтожение французов.
Радостное чувство свободы - той полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы, наполняло душу Пьера во время его выздоровления. Он удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая от внешних обстоятельств, теперь как будто с излишком, с роскошью обставлялась и внешней свободой. Он был один в чужом городе, без знакомых. Никто от него ничего не требовал; никуда его не посылали. Все, что ему хотелось, было у него; вечно мучившей его прежде мысли о жене больше не было, так как и ее уже не было...
То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это-то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастие.
Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, - не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого бога. Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уж говорила нянюшка: что бог вот он, тут, везде. Он в плену узнал, что бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной. Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда- то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой...
Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед глазами, а чем-то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили, он, страдальчески сморщивши лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего-то, далеко отстоящего от него. Теперь он так же забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним; но теперь с чуть заметной, как будто насмешливой, улыбкой он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что-то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям - вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии...
Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны...
Старшая княжна, дочь Кирилла Владимировича Безухова, которая никогда не любила Пьера, специально приехала в Орел ухаживать за ним. Она заметила, что Пьер сильно изменился. Доктор, который лечил Пьера, часами засиживался у него, рассказывая истории из своей практики, делясь наблюдениями над нравами больных.
В последние дни пребывания Пьера в Орле к нему приехал старый знакомый - масон граф Вилларский (один из тех, кто вводил его в ложу в 1807 году). Он был рад встрече с Пьером, но вскоре заметил, что Безухов «отстал от настоящей жизни и впал в апатию и эгоизм». Пьер же, смотря на Вилларского, удивлялся, что еще недавно был таким же.
Приехавший к Пьеру управляющий доложил ему об убытках, заметив, что если он не будет восстанавливать московских домов, сгоревших во время пожара, и откажется от уплаты долгов Элен, то его доходы не только не уменьшатся, но даже увеличатся. Однако получив спустя некоторое время письма о долгах жены Пьер понял, что план управляющего был неверен, с долгами жены необходимо разобраться и, кроме того, нужно строиться в Москве. Пьер осознавал, что его доходы при этом значительно уменьшатся, но понимал, что так надо.
Тем временем в разрушенную неприятелем Москву со всех сторон возвращались люди, объединенные общим желанием восстановить столицу.
В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Растопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу; все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады; все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал; но невольно теперь он держал себя со всеми людьми настороже, так, чтобы не связать себя чем-нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали, - важные или самые ничтожные, - отвечал одинаково неопределенно; спрашивали ли у него: где он будет жить? будет ли он строиться? когда он едет в Петербург и возьмется ли свезти ящичек? - он отвечал: да, может быть, я думаю, и т. д.
На третий день своего приезда Пьер узнал от Друбецких, что княжна Марья находится в Москве, и отправился к ней.
В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же...
Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.
В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», - подумал он, взглянув на даму в черном платье.
Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.
Да, - сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, - вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, - сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.
Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. - Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что-то сказать; но Пьер перебил ее.
Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, - сказал он. - Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым... Какая судьба!
Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и, как это часто бывает во время разговора, он почему-то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье - милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.
Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:
Вы не узнаете разве?
Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что-то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.
«Но нет, это не может быть, - подумал он. - Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того».
Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, - улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.
В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее - яснее, чем самыми определенными словами, - он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее...
Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально-вопросительные.
Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.
Княжна Марья рассказала Пьеру о последних днях брата. Смущение Пьера постепенно исчезало, но он чувствовал, что одновременно с этим исчезает и его свобода.
Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей; но, что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя...
За обедом княжна Марья попросила Пьера рассказать о себе.
А я стал втрое богаче, - сказал Пьер. Пьер, несмотря на то, что долги жены и необходимость построек изменили его дела, продолжал рассказывать, что он стал втрое богаче.
Что я выиграл несомненно, - сказал он, - так это свободу... - начал он было серьезно; но раздумал продолжать, заметив, что это был слишком эгоистический предмет разговора...
В этот день Пьер долго не мог заснуть, он думал о Наташе, об Андрее, об их любви, и «то ревновал ее к прошедшему, то упрекал, то прощал себя за это». С этого времени Пьер часто бывал у княжны Марьи и Наташи и отложил свой отъезд в Петербург. В один из вечеров Пьер обратился к княжне Марье с просьбой помочь ему объясниться с Наташей. Он признался, что сильно любит ее, но не может решиться просить ее руки. Однако мысль, что она могла бы стать его женой и что он может упустить эту возможность, не давала ему покоя.
Говорить ей теперь... нельзя, - все-таки сказала княжна Марья.
Но что же мне делать?
Поручите это мне, - сказала княжна Марья. - Я знаю...
Пьер смотрел в глаза княжне Марье.
Ну, ну... - говорил он.
Я знаю, что она любит... полюбит вас, - поправилась княжна Марья.
Не успела она сказать эти слова, как Пьер вскочил и с испуганным лицом схватил за руку княжну Марью.
Отчего вы думаете? Вы думаете, что я могу надеяться? Вы думаете?!
Да, думаю, - улыбаясь, сказала княжна Марья. - Напишите родителям. И поручите мне. Я скажу ей, когда будет можно. Я желаю этого. И сердце мое чувствует, что это будет.
Нет, это не может быть! Как я счастлив! Но это не может быть... Как я счастлив! Нет, не может быть! - говорил Пьер, целуя руки княжны Марьи.
Вы поезжайте в Петербург; это лучше. А я напишу вам, - сказала она.
В Петербург? Ехать? Хорошо, да, ехать. Но завтра я могу приехать к вам?
На другой день Пьер приехал проститься. Наташа была менее оживлена, чем в прежние дни; но в этот день, иногда взглянув ей в глаза, Пьер чувствовал, что он исчезает, что ни его, ни ее нет больше, а есть одно чувство счастья.
«Неужели? Нет, не может быть», - говорил он себе при каждом ее взгляде, жесте, слове, наполнявших его душу радостью...
Когда он, прощаясь с нею, взял ее тонкую, худую руку, он невольно несколько дольше удержал ее в своей.
«Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое, привычное, такое же, каким я сам для себя? Нет, это невозможно!..»
Прощайте, граф, - сказала она ему громко. - Я очень буду ждать вас, - прибавила она шепотом.
И эти простые слова, взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, в продолжение двух месяцев составляли предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера. «Я очень буду ждать вас... Да, да, как она сказала? Да, я очень буду ждать вас. Ах, как я счастлив! Что ж это такое, как я счастлив!» - говорил себе Пьер...
Для Пьера это было время «счастливого сумашествия». Прежде он никогда не испытывал подобного чувства. Весь смысл жизни теперь казался ему сосредоточенным в любви. Когда при нем обсуждали государственные или политические вопросы или предлагали служить, он удивлял людей странными замечаниями.
Наташа предчувствовала, что Пьер должен сделать ей предложение. Когда княжна Марья сказала ей о том, что Пьер попросил ее руки, «радостное, и вместе с тем жалкое, просящее прощения за свою радость, выражение остановилось на лице Наташи». Но узнав, что Пьер собирается в Петербург, она очень удивилась.
В Петербург? - повторила она, как бы не понимая. Но, вглядевшись в грустное выражение лица княжны Марьи, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. - Мари, - сказала она, - научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я буду делать; научи меня...
Ты любишь его?
Да, - прошептала Наташа.
О чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя, - сказала княжна Марья, за эти слезы простив уже совершенно радость Наташи...
Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чувство отчуждения от лиц своей семьи. Все свои: отец, мать, Соня, были ей так близки, привычны, так будничны, что все их слова, чувства казались ей оскорблением того мира, в котором она жила последнее время, и она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них. Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче, о несчастии, но не поняла их.
"Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие? У них все свое старое, привычное и покойное", - мысленно сказала себе Наташа.
Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слёз. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое, мягкое лицо.
Пе… Петя… Поди, поди, она… она… зовет… - И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками.
Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что-то. Наташа не видела, не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери.
Графиня лежала на кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки.
Наташу, Наташу!.. - кричала графиня. - Неправда, неправда… Он лжет… Наташу! - кричала она, отталкивая от себя окружающих. - Подите прочь все, неправда! Убили!.. ха-ха-ха-ха!.. неправда!
Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней.
Маменька!..голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька, - шептала она ей, не замолкая ни на секунду.
Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери.
Друг мой, голубушка… маменька, душенька, - не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы.
Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него.
Наташа, ты меня любишь, - сказала она тихим, Доверчивым шепотом. - Наташа, ты не обманешь меня? Ты мне скажешь всю правду?
Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви.
Друг мой, маменька, - повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.
И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия.
Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила.
Как я рада, что ты приехал. Ты устал, хочешь чаю? - Наташа подошла к ней. - Ты похорошел и возмужал, - продолжала графиня, взяв дочь за руку.
Маменька, что вы говорите!..
Наташа, его нет, нет больше! - И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать.
III
Княжна Марья отложила свой отъезд. Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, - говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню.
Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни - старухой. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни.
Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, как ни странно это кажется, после того как глубокая рана зажила и кажется сошедшейся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни.
Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни - любовь - еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.
Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. Новое несчастье еще более сблизило их. Княжна Марья отложила свой отъезд и последние три недели, как за больным ребенком, ухаживала за Наташей. Последние недели, проведенные Наташей в комнате матери, надорвали ее физические силы.
Однажды княжна Марья, в середине дня, заметив, что Наташа дрожит в лихорадочном ознобе, увела ее к себе и уложила на своей постели. Наташа легла, но когда княжна Марья, опустив сторы, хотела выйти, Наташа подозвала ее к себе.
Мне не хочется спать. Мари, посиди со мной.
Ты устала - постарайся заснуть.
Нет, нет. Зачем ты увела меня? Она спросит.
Ей гораздо лучше. Она нынче так хорошо говорила, - сказала княжна Марья.
Наташа лежала в постели и в полутьме комнаты рассматривала лицо княжны Марьи.
"Похожа она на него? - думала Наташа. - Да, похожа и не похожа. Но она особенная, чужая, совсем новая, неизвестная. И она любит меня. Что у ней на душе? Все доброе. Но как? Как она думает? Как она на меня смотрит? Да, она прекрасная".
Маша, - сказала она, робко притянув к себе ее руку. - Маша, ты не думай, что я дурная. Нет? Маша, голубушка. Как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями.
И Наташа, обнимая, стала целовать руки и лицо княжны Марьи. Княжна Марья стыдилась и радовалась этому выражению чувств Наташи.
С этого дня между княжной Марьей и Наташей установилась та страстная и нежная дружба, которая бывает только между женщинами. Они беспрестанно целовались, говорили друг другу нежные слова и большую часть времени проводили вместе. Если одна выходила, то другая была беспокойна и спешила присоединиться к ней. Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем порознь, каждая сама с собою. Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба: это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга.
Иногда они молчали целые часы; иногда, уже лежа в постелях, они начинали говорить и говорили до утра. Они говорили большей частию о дальнем прошедшем. Княжна Марья рассказывала про свое детство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтания; и Наташа, прежде с спокойным непониманием отворачивавшаяся от этой жизни, преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанной любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни. Она не думала прилагать к своей жизни покорность и самоотвержение, потому что она привыкла искать других радостей, но она поняла и полюбила в другой эту прежде непонятную ей добродетель. Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о детстве и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вера в жизнь, в наслаждения жизни.
Они всё точно так же никогда не говорили про него с тем, чтобы не нарушать словами, как им казалось, той высоты чувства, которая была в них, а это умолчание о нем делало то, что понемногу, не веря этому, они забывали его.
Наташа похудела, побледнела и физически так стала слаба, что все постоянно говорили о ее здоровье, и ей это приятно было. Но иногда не нее неожиданно находил не только страх смерти, но страх болезни, слабости, потери красоты, и невольно она иногда внимательно разглядывала свою голую руку, удивляясь на ее худобу, или заглядывалась по утрам в зеркало на свое вытянувшееся, жалкое, как ей казалось, лицо. Ей казалось, что это так должно быть, и вместе с тем становилось страшно и грустно.
Один раз она скоро взошла наверх и тяжело запыхалась. Тотчас же невольно она придумала себе дело внизу и оттуда вбежала опять наверх, пробуя силы и наблюдая за собой.