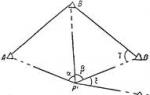Мартин иден монолог после встречи с рут. "Мартин Иден". Обратная сторона мечты. Адам и Ева. История любви
Ниже предлагается несколько понравившихся мне отрывков (отрывки цитируются из книги без изменений). Обзор книги .Мартин Иден меняет себя…
В одном отношении с ним произошел нравственный переворот. На него подействовала ее опрятность и чистота, и всем своим существом он теперь жаждал стать опрятным. Это необходимо, иначе он никогда не будет достоин дышать одним с ней воздухом. Он стал чистить зубы, скрести руки щеткой для мытья посуды и, наконец, в аптечной витрине увидел щеточку для ногтей и догадался, для чего она. Он купил ее, а продавец, поглядев на его ногти, предложил ему еще и пилку для ногтей, так что он завел еще одну туалетную принадлежность. В библиотеке ему попалась книжка об уходе за телом, и он тотчас пристрастился обливаться по утрам холодной водой, чем немало удивил Джима и смутил Хиггинботема, который не одобрял подобные новомодные фокусы, но всерьез задумался, не стребовать ли с Мартина дополнительной платы за воду. Следующим шагом были отутюженные брюки.
Став внимательней к внешности, Мартин быстро заметил разницу: у трудового люда штаны пузырятся на коленях, а у всех, кто рангом повыше, ровная складка идет от колен к башмакам. Узнал он и отчего так получается и вторгся в кухню сестры в поисках утюга и гладильной доски. Поначалу у него случилась беда: он непоправимо сжег одну пару брюк и купил новые, и этот расход еще приблизил день, когда надо будет отправиться в плавание.
Но перемены коснулись не только внешнего вида, они шли глубже. Он еще курил, но больше не пил. Прежде ему казалось, выпивка - самое что ни на есть мужское занятие, и он гордился, что голова у него крепкая и уж почти все собутыльники валяются под столом, а он все не хмелеет. Теперь же, встретив кого-нибудь из товарищей по плаванию, а в Сан-Франциско их было немало, он, как и раньше, угощал их, и они его угощали, но для себя он заказывал кружку легкого пива или имбирную шипучку и добродушно сносил их насмешки. А когда на них нападала пьяная плаксивость, приглядывался к ним, видел, как пьяный понемногу превращается в животное, и благодарил бога, что сам уже не такой. Каждый жил не так, как хотел, и рад был про это забыть, а напившись, эти тусклые тупые души уподоблялись богам, и каждый становился владыкой в своем раю, вволю предавался пьяным страстям.
Мартину крепкие напитки были теперь ни к чему. Он был пьян по-иному, глубже, - пьянила Руфь, она зажгла в нем любовь и на миг дала приобщиться к жизни возвышенной и вечной; пьянили книги, они породили мириады навязчивых желаний, не дающих покоя; пьянило и ощущение чистоты, которой он достиг, от нее еще прибыло здоровья, бодрость духа и сила так и играли в нем.
О бедности и милосердии…
Мария Сильва была бедна и отлично знала все приметы бедности. Для Руфи слово «бедность» обозначало существование, лишенное каких-то удобств. Тем и ограничивалось ее представление о бедности. Она знала, что Мартин беден, и это связывалось для нее с юностью Линкольна, мистера Батлера и многих других, кто потом добился успеха. К тому же, сознавая, что бедным быть не сладко, она, как истинная дочь среднего сословия, преспокойно полагала, будто бедность благотворна, что, подобно острой шпоре, она подгоняет по пути к успеху всех и каждого, кроме безнадежных тупиц и вконец опустившихся бродяг, И потому, когда она узнала, что безденежье заставило Мартина заложить часы и пальто, она не встревожилась. Ее это даже обнадежило, значит, рано или поздно он поневоле опомнится и вынужден будет забросить свою писанину.
Руфь не видела по лицу Мартина, что он голодает, хотя он осунулся, похудел, а щеки, и прежде впалые, запали еще больше. Перемены в его лице ей даже нравились.. Ей казалось, это облагородило его, не стало избытка здоровой плоти и той животной силы, что одновременно и влекла ее, и внушала отвращение. Иногда она замечала необычный блеск его глаз и радовалась, ведь такой он больше походил на поэта и ученого - на того, кем хотел быть, кем хотела бы видеть его и она. Но Мария Сильва читала в его запавших щеках и горящих глазах совсем иную повесть, день за днем замечала в нем перемены, по ним узнавала, когда он без денег, а когда с деньгами. Она видела, как он ушел из дому в пальто, а вернулся раздетый, хотя день был холодный и промозглый, и сразу приметила, когда голодный блеск в глазах потух и уже не так западают щеки. Заметила она и когда не стало часов, а потом велосипеда, и всякий раз после этого у него прибывало сил.
Видела она и как не щадя себя он работает и по расходу керосина знала, что он засиживается за полночь. Работа! Мария понимала, он работает еще побольше, чем она сама, хотя работа его и другого сорта. И ее поразило открытие: чем меньше он ест, тем усиленней работает. Бывало, приметив, что он уже вовсе изголодался, она как бы между прочим посылала ему с кем-нибудь из своей ребятни только что испеченный хлеб, смущенно прикрываясь добродушным поддразниванием - тебе, мол, такой не испечь. А то пошлет с малышом миску горячего супу, а в душе спорит сама с собой, вправе ли обделять родную плоть и кровь. Мартин был ей благодарен, ведь он доподлинно знал жизнь бедняков и знал, уж если существует на свете милосердие, так это оно и есть.
О социализме и индивидуализме…
- Я сужу по вашим же словам. - Глаза Мартина сверкали, но он не давал себе воли. - Видите ли, судья, я слушал ваши предвыборные речи. Благодаря некоему логическому кунштюку -это, кстати сказать, мое любимое, хоть и никому не понятное определение, - вы убедили себя, что верите в систему конкуренции и выживания сильнейшего, и в то же время со всей решительностью поддерживаете всевозможные меры, направленные на то, чтобы сильнейшего обессилить.
- Молодой человек…
- Не забывайте, я слышал ваши предвыборные речи, - предостерег Мартин. - Все это широко известно: и ваше мнение относительно упорядочения торговли между штатами, и об ограничении железных дорог и «Стандартойл», и о сохранении лесов, и относительно тысячи других подобных мер, - а это есть
не что иное как социализм.
- Вы что же хотите сказать, что не верите в необходимость ограничить непомерную власть?
- Не о том спор. Я хочу сказать, что вы плохой диагност. Хочу сказать, что я не заражен микробом, социализма. Хочу. сказать, что не я, а вы выхолощены болезнью, вызванной этим микробом. Я же закоренелый противник социализма, как и вашей ублюдочной демократии, которая по сути своей просто лжесоциализм, прикрывающийся одеянием из слов, которые не выдержат проверки толковым словарем. Я реакционер, такой законченный реакционер, что мою позицию вам не понять, ведь вы живете в обществе, где все окутано ложью, и сквозь этот покров неспособны ничего разглядеть. Вы только делаете вид, будто верите, что выживает и правит сильнейший. А я действительно верю. Вот в чем разница. Когда я был чуть моложе, всего на несколько месяцев, я верил в то же, что и вы. Видите ли, ваши идеи, идеи ваших сторонников произвели на меня впечатление. Но лавочники и торгаши, - правители в лучшем случае трусливые; они знают одно - толкутся и хрюкают у корыта, стараясь ухватить побольше, и я отшатнулся - если угодно, к аристократии. В этой комнате я единственный индивидуалист. Я ничего не жду от государства, я верю в сильную личность, в настоящего крупного человека - только он спасет государство, которое сейчас гнило и никчемно. Ницше был прав. Не стану тратить время и разъяснять, кто такой Ницше. Но он был прав. Мир принадлежит сильному, сильному, который при этом благороден и не валяется в свином корыте торгашества и спекуляции. Мир принадлежит людям истинного благородства, великолепным белокурым бестиям, умеющим утвердить себя и свою волю. И они поглотят вас - социалистов, которые боятся социализма и мнят себя индивидуалистами. Ваша рабская мораль сговорчивых и почтительных нипочем вас не спасет. Да, конечно, вы в этом ничего не смыслите, я больше не стану вам этим докучать. Но одно запомните. В Окленде индивидуалистов раз, два и обчелся, и один из них - Мартин Иден.
О социализме…
- Пошли! Идемте к здешним социалистам! Так говорил Бриссенден, еще слабый после кровохарканья, которое произошло полчаса назад, второй раз за три дня. И, верный себе, осушил зажатый в дрожащих пальцах стакан виски.
- Да на что мне социализм? - вскинулся Мартин.
- Постороннему тоже можно произнести речь, дается пять минут, - уговаривал больной. - Заведитесь и выскажитесь. Скажите им, почему вы противник социализма. Скажите, что вы думаете о них и об их сектантской этике. Обрушьте на них Ницше, и получите за это взбучку. Затейте драку. Им это полезно. Им нужен серьезный спор, и вам тоже. Понимаете, я хотел бы, чтобы вы стали социалистом прежде, чем я помру. Это придаст смысл вашей жизни. Только это и спасет вас в пору разочарования, а его вам не миновать.
- Для меня загадка, почему вы, именно вы, социалист, - размышлял Мартин. - Вы так ненавидите толпу. Ну что в этой черни может привлечь вашу душу завзятого эстета. Похоже, социализм вас не спасает. - И он укоризненно показал на стакан, Бриссенден снова наливал себе виски.
- Я серьезно болен, - услышал он в ответ. - Вы-дело другое. У вас есть здоровье и многое, ради чего стоит жить, и надо покрепче привязать вас к жизни. Вот вы удивляетесь, почему я социалист. Сейчас объясню. Потому что социализм неизбежен; потому что современный строй прогнил, вопиюще противоречит здравому смыслу и обречен; потому что времена вашей сильной личности прошли. Рабы ее не потерпят. Их слишком много, и волей-неволей они повергнут наземь так называемую сильную личность еще прежде, чем она окажется на коне. Никуда от них не денешься, и придется вам глотать их
рабскую мораль. Признаюсь, радости мало. Но все уже началось, и придется ее заглотать. Да и все равно вы с вашим ницшеанством старомодны. Прошлое есть прошлое, и тот, кто утверждает, будто история повторяется, лжет. Конечно, я не люблю толпу, но что мне остается, бедняге? Сильной личности не дождешься, и я предпочту все. что угодно, лишь бы всем не заправляли нынешние трусливые свиньи. Ну ладно, идемте. Я уже порядком нагрузился и, если посижу здесь еще немного, напьюсь вдрызг. А вам известно, что сказал доктор… К черту доктора! Он у меня еще останется в дураках.
Был воскресный вечер, и в маленький зал до отказа набились оклендские социалисты, почти сплошь рабочие. Оратор, умный еврей, вызвал у Мартина восхищение и неприязнь. Он был сутулый, узкоплечий, с впалой грудью. Сразу видно: истинное дитя трущоб, и Мартину ясно представилась вековая борьба слабых, жалких рабов против горстки властителей, которые правили и будут править ими до конца времен. Этот тщедушный человек показался Мартину символом. Вот олицетворение всех слабых и незадачливых, тех, кто, согласно закону биологии, гибли на задворках жизни. Они не приспособлены к жизни. Несмотря на их лукавую философию, несмотря на муравьиную склонность объединять свои усилия. Природа отвергает их, предпочитая личность исключительную. Из множества живых существ, которых она щедрой рукой бросает в мир, она отбирает только лучших. Ведь именно этим методом, подражая ей, люди выводят скаковых лошадей и первосортные огурцы. Без сомнения, иной творец мог бы для иной вселенной изобрести метод получше; но обитатели нашей вселенной должны приспосабливаться к ее миропорядку. Разумеется, погибая, они еще пробуют извернуться, как изворачиваются социалисты, как вот сейчас изворачиваются оратор на трибуне и обливающаяся потом толпа, когда они тут все вместе пытаются изобрести новый способ как-то смягчить тяготы жизни и перехитрить свою вселенную.
Так думал Мартин, и так он и сказал, когда Бриссенден подбил его выступить и задать всем жару. Он повиновался и, как было здесь принято, взошел на трибуну и обратился к председателю. Он начал негромко, запинаясь, на ходу формулируя мысли, которые закипели в нем, пока говорил тот еврей. На таких собраниях каждому оратору отводили пять кинут; но вот время истекло, а Мартин только еще разошелся и ударил по взглядам социалистов разве что из половины своих орудий. Он заинтересовал
слушателей, и они криками потребовали, чтобы председатель продлил Мартину время. Они увидели в нем достойного противника и ловили каждое его слово.
Горячо, убежденно, без обиняков, нападал он на рабов, на их мораль и тактику и ничуть не скрывал от слушателей, что они и есть те самые рабы. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и утверждал, что все в мире развивается по законам биологии.
- Итак, - наконец подвел он итог. - Государство, состоящее из рабов, выжить не может. Извечный закон эволюционного развития действителен и для общества. Как я уже показал, в борьбе за существование для сильного и его потомства естественней выжить, а слабого и его потомство сокрушают, и для них естественней погибнуть. В результате сильный и его потомство выживают, и пока существует борьба, сила каждого поколения возрастает. Это и есть развитие. Но вы, рабы, - согласен, быть рабами участь незавидная, - но вы, рабы, мечтаете об обществе, где закон развития будет отменен, где не будут гибнуть слабые и неприспособленные, где каждый неприспособленный получит вволю еды, где все переженятся и у всех будет потомство - у слабых так же, как у сильных. А что получится? Сила и жизнестойкость не будут возрастать от поколения к поколению. Наоборот, будут снижаться. Вот вам возмездие за вашу рабскую философию. Ваше общество рабов, построенное рабами и для рабов, неизбежно станет слабеть и рассыплется в прах - по мере того как будут слабеть и вырождаться члены этого общества. Не забывайте, я утверждаю принципы биологии, а не сентиментальной этики. Государство рабов не может выжить…
- А как же Соединенные Штаты?.. - крикнул кто-то с места.
- И в самом деле, как же Соединенные Штаты? - отозвался Мартин. - Тринадцать колоний сбросили своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе хозяева. Никто не правил ими сильной рукой. Но жить безо всяких правителей невозможно, и появились правители новой породы - крупных, мужественных, благородных людей сменили хитрые пауки-торгаши и ростовщики. И они опять вас поработили, но не открыто, по праву сильного с оружием в руках, как сделали бы истинно благородные люди, а исподтишка, при помощи паучьих ухищрений, лести, пресмыкательства и лжи. Они купили ваших рабские судей, развратили ваших рабских законников и обрекли ваших сыновей и дочерей на ужасы, пострашней рабского труда на плантациях. Два миллиона ваших детей непосильно трудятся сегодня в Соединенных Штатах, в этой олигархии торговцев. У вас, десяти миллионов рабов, нет сносной крыши над головой, и живете вы впроголодь. Так вот. Я показал вам, что общество рабов не может выжить, потому что по самой природе своей это общество опровергает закон развития. Стоит создать общество рабов, и оно начинает вырождаться. Легко вам на словах опровергать всеобщий закон развития, ну, а где он, новый закон развития, который послужит вам опорой? Сформулируйте его. Он уже сформулирован? Тогда объявите его во всеуслышание.
Под взрыв криков Мартин прошел к своему месту. Человек двадцать вскочили на ноги и требовали, чтобы председатель предоставил им слово. Один за другим, поддерживаемые, одобрительными возгласами, они горячо, увлеченно, в азарте размахивая руками, отбивали нападение. Буйный был вечер, но то было интеллектуальное буйство-битва идей. Кое-кто отклонялся в сторону, но большинство ораторов прямо отвечали Мартину. Они ошеломляли его новым для него ходом мысли, и ему открывались, не новые законы биологии, а новое толкование старых законов. Спор слишком задевал их за живое, чтобы постоянно соблюдать вежливость, и председатель не раз яростно стучал, колотил по столу, призывая к порядку.
О славе и известности…
К нему хлынули и деньги и слава; он вспыхнул в литературе подобно комете, но вся эта шумиха не слишком его трогала, разве что забавляла. Одно его изумляло, сущий пустяк, которому изумился бы литературный мир, узнай он об этом. Но мир был бы изумлен скорее не этим пустяком, а изумлением
Мартина, в чьих глазах пустяк этот вырос до громадных размеров. Судья Блаунт пригласил его на обед. Да, пустяк, но пустяку предстояло вскоре превратиться в нечто весьма существенное. Когда-то он оскорбил судью Блаунта, был с ним чудовищно груб, а судья, встретившись с ним на улице, пригласил его на обед. Мартину вспомнилось, как часто он встречался с судьей Блаунтом у Морза и хоть бы раз тот пригласил его на обед. Почему же судья не приглашал его тогда? - спрашивал себя Мартин. Он, Мартин, не изменился. Он все тот же Мартин Иден. В чем же разница? В том, что написанное им вышло в свет в виде книги? Но ведь написал он это раньше, работа была уже сделана. Это вовсе не достижение последнего времени. Все уже завершено было в ту пору, когда судья Блаунт заодно со всеми высмеивал его увлечение Спенсером и его рассуждения. Значит, не за то, что в нем и вправду ценно, пригласил его судья на обед, а за то, что он поднялся на какие-то мнимые высоты.
…
Так размышляя, Мартин и решил, что невелика цена его славе. Ведь его книги раскупали и осыпали его золотом буржуа, а по тому немногому, что знал он о буржуа, ему не ясно было, как они могли оценить по достоинству или хотя бы понять то, что он пишет. Подлинная красота и сила его книг ничего не значили для сотен тысяч, которые раскупали и шумно восхваляли автора. Все вдруг помешались на нем, на дерзком смельчаке, который штурмом взял Парнас, пока боги вздремнули. Сотни тысяч читают его и шумно восхваляют, в своем дремучем невежестве ничего, не смысля в его книгах, как, ничего не смысля, подняли шум вокруг «Эфемериды» Бриссендена и разорвали ее в клочья… Эта волчья стая ластится: к нему, а могла вы впиться в него клыками. Ластиться или впиться клыками- это дело случая, одно ясно и несомненно: «Эфемерида» несравнимо выше всего, что написал он, Мартин. Несравнимо выше всего, на что он способен. Такая поэма рождается однажды в несколько столетий, а значит, восхищению толпы грош цена, ведь та же самая толпа вываляла в грязи «Эфемериду». Мартин глубоко, удовлетворенно вздохнул. Хорошо, что последняя рукопись продана и скоро со всем этим будет покончено.
…
От приглашений к обеду отбою не было, и чем чаще Мартина приглашали, тем сильней он удивлялся. Почетным гостем сидел он на банкете Арден-клуба, среди людей выдающихся, о которых он слышал, о которых читал всю свою жизнь, и они говорили ему, что, едва прочитав в «Трансконтинентальном» «Колокольный звон», а в «Осе» «Пери и жемчужину», тут же разгадали в нем огромный талант. Господи, думал он, слушая это, а я голодал и ходил в отрепьях! Почему вы не накормили меня обедом тогда? Тогда это было бы в самый раз. Моя работа была уже сделана. Если вы кормите меня сейчас за то, что сработано прежде, почему же не кормили тогда, когда я в этом нуждался? Ни в «Колокольном звоне», ни в «Пери и жемчужине» я с тех пор не изменил ни слова. Нет, вы кормите меня сейчас не за то, что сработано. Кормите потому, что все меня кормят, и потому, что это почетно - кормить меня обедом. Вы кормите меня из стадного чувства, потому что и вы тоже чернь и потому что бессмысленная стадная тупость ввела у черни моду - кормить меня обедами. Но при чем тут сам Мартин Иден и книги, которые он написал? - печально спросил он себя, а потом поднялся и искусно, остроумно ответил на искусный остроумный тост.
Так оно и шло. Где бы Мартин ни оказывался - в Пресс-клубе, в Редвуд-клубе, на светских чаепитиях и литературных сборищах, - всегда речь заходила о «Колокольном звоне» и «Пери и жемчужине», и о том, что их прочли еще когда они впервые появились в журнале. И всегда Мартина бесил невысказанный вопрос: «Почему вы не кормили меня тогда? Моя работа была уже сделана. „Колокольный звон― и „Пери и жемчужина― не изменились ни на волос. В них и тогда было то же мастерство, те же достоинства. Но не из-за них вы меня угощаете, не из-за других моих вещей. Вы потому угощаете, что теперь это признак хорошего тона, потому что сейчас вся чернь помешалась на желании угостить Мартина Идена».
Обзоры книг Джека Лондона:
1.
Писатели и критики о Джеке Лондоне
Читаешь его и словно выходишь из какого-то тесного закоулка на широкое лоно морей, забираешь грудью соленый воздух и чувствуешь, как крепчают мускулы, как властно зовет вечно невинная жизнь к работе и борьбе.
Леонид Андреев
Джек Лондон – писатель, который хорошо видел, глубоко чувствовал творческую силу воли и умел изображать волевых людей.
Максим Горький
Земной поклон этому удивительному художнику за веру в человека, в то время когда, казалось, в человечестве испарилось и выдохлось, пропало навеки героическое начало.
Александр Куприн
Джек Лондон обладал талантом видеть то, что в настоящий момент скрыто от большинства людей, и научным знанием, позволяющим заглядывать в будущее, он предвидел события, разворачивающиеся в нашу эпоху.
Анатоль Франс
Фрагмент из романа Дж. Лондона «Мартин Иден» (финал) взят из кн.: Лондон Дж.Мартин Идеен: Роман / Джек Лондон; пер. с англ. С. Заяицкого. – Кишинев, 1956. (http://az.lib.ru/l/london_d/text_0040.shtml)
Жизнь была для Мартина Идена мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами. Жизнь сверкала перед ним и переливалась всеми цветами радуги, и ему было больно. Нестерпимо больно.
Мартин в первый раз за всю свою жизнь путешествовал в первом классе. Прежде во время плаваний на таких судах он или стоял на вахте, или обливался потом в глубине кочегарки. В те дни он нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли на палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали; натянутый над палубой тент защищал их от солнца и ветра, а малейшее их желание мгновенно исполнялось расторопными стюардами. Ему, вылезшему из душной угольной ямы, все это представлялось каким-то раем. А вот теперь он сам в качестве почетного пассажира сидит за столом по правую руку от капитана, все смотрят на него с благоговением, а между тем он тоскует о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае. Нового рая он не нашел, а старый был безвозвратно утрачен.
Чтобы хоть чем-нибудь занять свое время, Мартин попытался побеседовать с пароходными служащими. Он заговорил с помощником механика, интеллигентным и милым человеком, который сразу накинулся на него с социалистической пропагандой и набил ему все карманы памфлетами и листовками. Мартин лениво выслушал все аргументы в защиту рабской морали и вспомнил свою собственную ницшеанскую философию. Но в конце концов зачем все это? Он вспомнил одно из безумнейших положений Ницше, где тот подвергал сомнению все, даже самое истину. Что ж, может быть, Ницше и прав! Может быть, нигде, никогда не было, нет и не будет истины. Может быть, даже самое понятие истины нелепо. Но его мозг быстро утомился, и он рад был снова улечься в кресле и подремать.
Как ни тягостно было его существование на пароходе, впереди ожидали еще большие тяготы. Что будет, когда пароход придет на Таити? Сколько хлопот, сколько усилий воли! Надо будет позаботиться о товарах, найти шхуну, идущую на Маркизовы острова, проделать тысячу разных необходимых и утомительных вещей. И каждый раз, подумав обо всем этом, он начинал ясно понимать угрожавшую ему опасность. Да, он уже находился в Долине Теней, и самое ужасное было, что он не чувствовал страха. Если бы он хоть немного боялся, он мог бы вернуться к жизни, но он не боялся и потому все глубже погружался во мрак. Ничто в жизни уже не радовало его, даже то, что он так любил когда-то. Вот навстречу "Марипозе" подул давно знакомый северовосточный пассат, но этот ветер, некогда пьянивший его, как вино, теперь только раздражал. Он велел передвинуть свое кресло, чтобы избежать непрошенных ласк этого доброго товарища былых дней и ночей.
Но особенно несчастным почувствовал себя Мартин в тот день, когда "Марипоза" вступила в тропики. Сон покинул его. Он слишком много спал и теперь поневоле должен был бодрствовать, бродить по палубе и жмуриться от невыносимого блеска жизни. Он молча бродил взад и вперед. Воздух был влажен и горяч, и частые внезапные ливни не освежали его. Мартину было больно жить. Иногда в изнеможении он падал в свое кресло, но, отдохнув немного, вставал и снова начинал бродить. Он заставил себя дочитать, наконец, журнал и взял в библиотеке несколько томиков стихов. Но он не мог сосредоточить на них внимания и предпочел продолжать свои прогулки.
В первый раз за много-много дней сердце его радостно забилось. Наконец-то он нашел средство от своего недуга! Он поднял книжку и прочел вслух:
Устав от вечных упований,
Устав от радостных пиров,
Не зная страхов и желаний,
Благословляем мы богов
За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать.
За то, что все вольются реки
Когда-нибудь в морскую гладь.
Мартин снова поглядел на иллюминатор. Суинберн указал ему выход. Жизнь была томительна,- вернее, она стала томительно невыносима и скучна.
За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать!..
Да, за это стоит поблагодарить богов. Это их единственное благодеяние в мире! Когда жизнь стала мучительной и невыносимой, как просто избавиться от нее, забывшись в вечном сне!
Чего он ждет? Время идти.
Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. "Марипоза" сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он почувствовал на губах соленый привкус. И это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню! Но тут же он высмеял себя за это. К тому же не было времени. Ему так хотелось покончить поскорее.
Погасив свет в каюте для большей безопасности, Мартин просунул ноги в иллюминатор. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему, он проскользнул и повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки. Белая теплая вода подхватила его. "Марипоза" прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов. Пароход шел быстро. И едва он успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.
Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воле. Он совсем было забыл о главной своей цели. Огни "Марипозы" уже терялись вдали, а он все плыл и плыл, словно хотел доплыть до ближайшего берега, который был за сотни миль отсюда.
Это был бессознательный инстинкт жизни. Мартин перестал плыть, но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. "Воля к жизни", - подумал он и, подумав, презрительно усмехнулся. Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие.
Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым могучим движением ног и рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя. Погрузившись, он начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотическое средство, чтобы скорей забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды.
"Воля к жизни",- снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он испробует иной способ! Он глубоко вздохнул несколько раз. Набрав как можно больше воздуха, он, наконец, нырнул, нырнул головою вниз, со всею силою, на какую только был способен. Он погружался все глубже и глубже. Открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули, и он мысленно благодарил жизнь за эту последнюю милость.
Все глубже и глубже погружался он, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, разрывалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам и быстро помчались кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боли. Это была еще жизнь, послед нее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.
Его руки и ноги начали двигаться судорожно и слабо. Поздно! Он перехитрил волю к жизни! Он был уже слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плывет по безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, и он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк! Но он горел в его мозгу - яркий, белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то, и Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз, в темную бездну. Это он ясно понял! Он летит в темную бездну,- и в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.
«…Вперевалку, широко расставляя ноги, словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, он пошел за своим спутником. Огромные комнаты, казалось, были слишком тесны для его размашистой походки, – он все время боялся запенить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Он лавировал между различными предметами, преувеличивая опасность, существовавшую больше в его воображении. Между роялем и столом, заваленным книгами, могло свободно пройти шесть человек, но он отважился на это лишь с замиранием сердца. Его тяжелые руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать. И когда вдруг ему отчетливо представилось, что он вот-вот заденет книги на столе, он, как испуганный конь, прянул в сторону и едва не повалил табурет у рояля. Он смотрел на своего уверенно шагавшего спутника и впервые в жизни думал о том, как неуклюжа его собственная походка и как она отличается от походки других людей. На мгновение его обожгло стыдом от этой мысли…»
Прошла неделя с того дня, как Мартин познакомился с Руфью, а он все еще не решался пойти к ней. Иногда он уже совсем готов был решиться, но всякий раз сомнения одерживали верх. Он не знал, спустя какой срок прилично повторить посещение, и не было никого, кто бы мог ему сказать это, а он боялся совершить непоправимую ошибку. Он отошел от всех своих прежних товарищей и порвал с прежними привычками, а новых друзей у него не было, и ему оставалось только чтение. Читал он столько, что обыкновенные человеческие глаза давно уже не выдержали бы такой нагрузки. Но у него были выносливые глаза и крепкий, выносливый организм. Кроме того, до сих пор он жил в стороне от абстрактных книжных мыслей, и мозг его представлял собой нетронутую целину, благодатную почву для посева. Он не был утомлен науками и теперь мертвой хваткой вцеплялся в книжную премудрость.
К концу недели Мартину показалось, что он прожил целые столетия – так далека была прежняя жизнь и прежнее отношение к миру. Но ему все время мешал недостаток подготовки. Он брался за книги, которые требовали многих лет специального изучения. Сегодня он читал книги по античной, завтра по новой философии, так что в голове у него царила постоянная путаница идей. То же самое было и с экономическими учениями. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, и непонятные ему формулы одного опровергали утверждения другого. Он совершенно растерялся и все-таки хотел все знать, одновременно увлекаясь и экономикой, и индустрией, и политикой. Однажды, проходя через Сити-Холл-парк, он увидел толпу, окружившую человек пять или шесть, которые, по всей видимости, были заняты каким-то горячим спором. Он подошел поближе и тут в первый раз услыхал еще незнакомый ему язык народных философов. Один был бродяга, другой – профсоюзный агитатор, третий – студент университета, а остальные – просто любители дискуссий из рабочих. Впервые он услыхал об анархизме, социализме, о едином налоге, узнал, что существуют различные, враждебные друг другу, системы социальной философии. Он услыхал сотни совершенно новых для него терминов из таких областей науки, которые еще не вошли в его скудный обиход сведений. Вследствие этого он не мог следить за развитием спора и лишь чутьем угадывал идеи, скрытые в этих странных словах. Был среди спорщиков черноглазый лакей из ресторана – теософ, член профсоюза пекарей – агностик, какой-то старик, сразивший всех своей удивительной философией, основанной на утверждении, что все сущее справедливо, и еще один старик, пространно рассуждавший о космосе, об атоме-отце и об атоме-матери.
У Мартина Идена голова распухла от всех этих рассуждений, и он поспешил в библиотеку посмотреть значение десятка врезавшихся в его память слов. Уходя из библиотеки, он нес под мышкой четыре толстых тома «Тайная доктрина» госпожи Блаватской, «Прогресс и бедность», «Квинтэссенция социализма», «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка в этой книге изобиловала многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Он вычитал столько слов, что, запоминая одни, забывал другие и должен был снова искать в словаре. Он решил записывать слова в особую тетрадку и в короткий срок исписал десятка два страниц. И все-таки он ничего не мог понять. Он читал до трех часов утра; у него уже ум за разум зашел, а все же ни одной существенной мысли он в тексте не уловил. Он поднял голову, и ему показалось, что вся комната ходит ходуном, как корабль во время качки. Тогда он выругался, отшвырнул «Тайную доктрину», потушил газ и решил заснуть. Не лучше пошло дело и с остальными тремя книгами. И не то, чтобы мозг его был слаб или невосприимчив: он мог бы усвоить все эти мысли, но ему не хватало тренировки и не хватало словесного запаса. Он, наконец, понял это и одно время носился даже с мыслью читать один только словарь, пока он не выучит наизусть все незнакомые слова.
Единственным утешением была для Мартина поэзия: он с восторгом читал тех простых поэтов, каждая строчка которых была ему понятна. Он любил красоту, а здесь он находил ее в изобилии. Поэзия действовала на него так же сильно, как и музыка, и незаметным образом подготовляла его ум к будущей, более трудной работе. Страницы его памяти были пусты, и он без всякого усилия запоминал строфу за строфой, так что скоро мог уже вслух произносить целые стихотворения, наслаждаясь гармоническим звучанием оживших печатных строк. Однажды он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гэйли и «Век сказки» Бельфинча. Словно луч яркого света прорезал вдруг мрак его невежества, и его еще больше потянуло к поэзии.
Человек за столом уже знал Мартина, был очень приветлив с ним и дружелюбно кивал головой, когда Мартин приходил в библиотеку. Поэтому Мартин решился однажды на смелый поступок. Он взял несколько книг и, когда библиотекарь штемпелевал его карточки, пробормотал:
– Послушайте, можно вас спросить кой о чем? – Библиотекарь улыбнулся и ободряюще кивнул головой.
– Если вы познакомились с молодой леди и она просила вас зайти… так вот… когда можно это сделать?
Мартин почувствовал, что рубашка прилипла к его спине, вспотевшей от волнения.
– Да когда угодно, по-моему, – отвечал библиотекарь.
– Нет, вы не понимаете, – возразил Мартин. – Она… видите ли, в чем штука ее может не быть дома. Она ходит в университет.
– Ну, другой раз зайдете.
– Собственно дело даже не в этом, – признался Мартин, решившись, наконец, отдаться на милость собеседника, – я, видите ли, простой матрос, я не очень-то привык к такому обществу. Эта девушка совсем не то, что я, а я совсем не то, что она… Вы не подумайте, что я дурака ломаю, – перебил он вдруг сам себя.
– Нет, нет, что вы, – запротестовал библиотекарь. – Правда, ваш запрос не в компетенции справочного отдела, но я с удовольствием постараюсь помочь вам.
Мартин посмотрел на него с восхищением.
– Эх, если бы я умел так шпарить, вот это было бы дело, – сказал он.
– Виноват…
– Я хочу сказать, что все было бы хорошо, если бы я умел так складно и вежливо говорить, как вы.
– А! – сочувственно отозвался библиотекарь.
– Когда лучше прийти? Днем? Только так, чтобы не угодить к обеду? Или вечером? А может, в воскресенье?
– Знаете, что я вам посоветую, – сказал, улыбаясь, библиотекарь, – вы ей позвоните по телефону и спросите.
– А ведь верно! – воскликнул Мартин, собрал книги и пошел к выходу.
На пороге он обернулся и спросил:
– Когда вы разговариваете с молодой леди – ну, скажем, мисс Лиззи Смит, – как надо говорить: мисс Лиззи или мисс Смит?
– Говорите «мисс Смит», – сказал библиотекарь авторитетным тоном, – говорите «мисс Смит», пока не познакомитесь с ней поближе.
Итак, проблема была разрешена.
– Приходите когда угодно. Я всегда дома после обеда, – отвечала по телефону Руфь на его робкий вопрос, когда он может возвратить ей взятые у нее книги.
Она сама встретила его у двери, и ее женский глаз сразу отметил и отутюженную складку брюк, и какую-то общую неуловимую перемену к лучшему. Но удивительнее всего было выражение его лица. Казалось, в нем переливалась через край здоровая сила и волной захлестывала ее, Руфь. Снова она почувствовала желание прижаться к нему, ощутить теплоту его тела и снова поразилась тому, как действовало на нее его присутствие. А он, в свою очередь, вновь ощутил блаженный трепет, когда она подала ему руку. Разница между ними была в том, что она внешне ничем не обнаруживала своего волнения, в то время как он покраснел до корней волос.
Он последовал за ней, так же неуклюже переваливаясь на ходу. Но когда они уселись в гостиной, Мартин, против ожидания, почувствовал себя довольно непринужденно. Она всячески старалась создать у него это ощущение непринужденности и делала это так деликатно и бережно, что стала ему еще во сто крат милее. Сначала они поговорили о книгах, о Суинберне, которым он восхищался, и о Броунинге, который был для него непонятен. Руфь направляла разговор, а сама все думала о том, как бы помочь ему. Она часто думала об этом после их первой встречи. Ей непременно хотелось помочь ему. Она чувствовала нежность и жалость к нему, но в этой жалости не заключалось ничего обидного: это было никогда не испытанное ею прежде, почти материнское чувство. Да и могла ли это быть простая, обычная жалость, если в человеке, ее вызывавшем, она настолько чувствовала мужчину, что одна его близость порождала в ней безотчетный девический страх, и заставляла сердце биться от странных мыслей и чувств. Опять возникло у нее желание обнять его за шею или положить руки ему на плечи. И по-прежнему это желание смущало ее, но она уже к нему привыкла. Ей не приходило в голову, что зарождающаяся любовь может принимать такие формы. Но ей не приходило в голову также и то, что чувство, охватившее ее, можно назвать любовью. Ей казалось, что Мартин просто заинтересовал ее как человек необычный, с огромными потенциальными возможностями, и что ею руководят чисто филантропические побуждения.
Она не понимала, что желает его, но с ним дело обстояло иначе. Мартин знал, что любит Руфь; и знал, что желает ее так, как никогда еще не желал в своей жизни. Он и прежде любил поэзию, как любил все прекрасное, но после встречи с ней перед ним открылись врата в огромный мир любовной лирики. Она дала ему гораздо больше, чем Бельфинч и Гэйли. Неделю тому назад он не стал бы задумываться над такой, например, строчкой: «Печальный юноша, он одержим любовью и в поцелуе умереть готов», но теперь слова эти не выходили у него из головы. Он восхищался ими, как величайшим откровением; он смотрел на Руфь и думал, что с радостью умер бы в поцелуе. Он чувствовал себя тем самым печальным юношей, который «одержим любовью», и гордился этим больше, чем мог бы гордиться возведением в рыцарское достоинство. Он постиг, наконец, смысл жизни и цель своего существования на земле.
Когда он смотрел на нее и слушал ее, его мысли становились смелее. Он вспоминал наслаждение, испытанное при пожатии ее руки, и жаждал почувствовать его снова. Порою он с жадным томлением смотрел на ее губы. Но ничего грубого и земного в этом томлении не было. Ему доставляло невыразимое наслаждение ловить каждое движение ее губ в то время, как она говорила, это не были обычные губы, какие бывают у всех женщин и мужчин. Они были не из плоти и крови. Это были уста бесплотного духа, и желание их поцеловать совершенно не было похоже на желание, возбуждаемое другими женщинами. Он, конечно, охотно прижал бы к этим небесным устам свои губы, но это было бы все равно, как если бы он приложился к образу самого господа бога. Он не мог разобраться в той своеобразной переоценке ценностей, которая в нем происходила, и не понимал, что в конце концов, когда он смотрит на нее, глаза его горят тем самым огнем, которым горят глаза всякого мужчины, жаждущего любви. Он не подозревал, как пылок и мужественен его взгляд, как глубоко он волнует ее всю. Ее девственная непорочность облагораживала для него его собственные чувства, и возносила их на высоту холодного целомудрия звезд. Он был бы потрясен, узнав, что его глаза излучают таинственное тепло, которое проникает в недра ее существа, и там зажигают ответный огонь. Смущенная, встревоженная его взглядом, она несколько раз теряла нить разговора и с немалым трудом вновь собирала обрывки мыслей. Обычно она не затруднялась в разговоре и теперь объясняла свое состояние исключительностью своего собеседника. Она была очень восприимчива ко всякого рода впечатлениям, и, в конце концов, не было ничего удивительного, что этот пришелец из другого мира смущал ее.
Она думала, как помочь ему, и хотела начать беседу в этом направлении, но Мартин сам пришел ей на помощь.
– Не знаю, могу ли я попросить у вас совета, – начал он и едва не задохнулся от радости, когда она выразила готовность сделать для него все, что будет в ее силах.
– Помните, я в тот раз говорил, что не умею говорить о книгах, о всяких таких вещах, ничего у меня из этого не получается. Ну вот, я с тех пор много передумал. Стал ходить в библиотеку, набрал там всяких книг, но только все они не для моего ума. Может, лучше начать сначала? Я ведь по-настоящему и не учился никогда. Мне пришлось работать с самого детства, а вот теперь я пошел в библиотеку, посмотрел на книги, почитал – и вижу, что раньше читал я совсем не то, что нужно. Понимаете, где-нибудь на ферме или в пароходном кубрике таких книг не найдешь, как, скажем, у вас в доме. Там чтение другое, и вот к такому-то чтению я как раз и привык. А между тем, скажу не хвастаясь, я не такой, как те, с кем я водил компанию. Не то, чтобы я был лучше других матросов и ковбоев, я и ковбоем тоже был, – но я, видите ли, всегда любил книги и всегда читал все, что попадалось под руку, и мне кажется, у меня голова работает на иной манер, чем у моих товарищей. Но дело-то еще не в этом. Дело вот в чем. Я никогда не бывал в таких домах, как ваш. Когда я к вам пришел на той неделе и увидел вас, и вашу мать, и ваших братьев, и как тут у вас все, – мне очень понравилось. Я раньше только в книжках читал про такое, но тут вот оказалось, что книги не врут. И мне понравилось. Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать таким воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, картины и всякие красивые вещи, и чтобы люди говорили спокойно и тихо, и были чисто одеты, и мысли чтоб у них были чистые. Тот воздух, которым я всю жизнь дышал, пахнет кухней, вином, руганью и разговорами о квартирной плате. Когда вы встали, чтобы поцеловать свою мать, мне это показалось так красиво, – ничего красивее на свете я не видел. А я повидал немало и могу сказать – всегда видел больше, чем другие. Я очень люблю смотреть, и мне всегда хочется увидеть еще что-нибудь и еще.
Но это все не то. Самое главное вот: мне бы хотелось дойти до такой жизни, какою живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос: как достичь этого? С чего мне начать? Работы я не боюсь; если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать, – вот разве к Артуру? Может, мне к нему и надо было пойти? Если я был…
Он вдруг замолчал. Весь его план зашатался при мысли, что надо было в самом деле спросить Артура и что он разыграл дурака. Руфь ответила не сразу. Она была поглощена тем, что пыталась связать воедино его нескладную речь и примитивные мысли с тем, что она читала в его глазах. Она никогда не видела глаз, в которых отражалась бы такая несокрушимая сила. Этот человек все может, – вот о чем говорил ей его взгляд, и это плохо вязалось с его словесной беспомощностью. К тому же ее собственный ум был так изощрен и сложен, что она не умела по-настоящему оценить простоту и непосредственность. И все же даже в этом косноязычии мысли угадывалась сила. Мартин представлялся ей великаном, силящимся сорвать с себя оковы. Ее лицо дышало лаской, когда она заговорила.
– Вы сами знаете, чего вам не хватает, – сказала она, – вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала – кончить школу, а потом пройти курс в университете.
– Для этого нужны деньги, – прервал он ее.
– О, – воскликнула она, – я не подумала об этом! Но разве никто из ваших родных не мог бы поддержать вас?
Он отрицательно покачал головой.
– Отец и мать мои умерли. У меня две сестры: одна замужняя, другая, вероятно, скоро выйдет замуж. Братьев целая куча, я младший, – но они никому никогда не помогали. И все давно уже разбрелись по миру искать счастья, каждый сам по себе. Старший умер в Индии. Двое сейчас в Южной Африке, один плавает на китобойном судне, а второй разъезжает с бродячим цирком – он акробат на трапеции. Вот и я такой же. С одиннадцати лет я сам себя содержу, с тех пор как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.
– Вам, во-первых, надо бы заняться языком. Вы иногда выражаетесь (она хотела сказать «ужасно», но удержалась) не совсем правильно.
Лоб его покрылся испариной.
– Я знаю, что иногда отпускаю такие словечки, которых вам не понять. Но эти-то я хоть знаю, как выговаривать. Я держу в голове кое-какие слова из книг, но я не знаю, как они произносятся, потому-то и не говорю их.
– Дело тут не только в словах, а в общем строе речи. Можно говорить с вами откровенно? Вы не обидитесь на меня?
– Нет, нет! – воскликнул он, благословляя в душе ее доброту. – Жарьте! Уж лучше мне узнать все это от вас, чем от кого-нибудь другого!
– Так вот. Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Я многое отметила в вашем разговоре, от чего вам надо отвыкать. А грамматику я вам сейчас принесу.
Когда Руфь встала, Мартину вспомнилось одно правило из книги об этикете, и он неуклюже поднялся со своего места, но тут же испугался – не подумала бы она, что он собирается уходить.
Руфь принесла грамматику и придвинула свой стул к его стулу, причем Мартин подумал, что, вероятно, нужно было помочь его придвинуть. Она раскрыла книгу, и головы их сблизились. Ему трудно было следить за ее объяснениями – так волновала его эта близость. Но когда она начала объяснять тайны спряжений, он забыл все на свете. Он никогда не слыхал о спряжениях, и это первое проникновение в таинственные законы речи заворожило его. Он ниже пригнулся к книге, и вдруг ее волосы коснулись его щеки.
Мартин Иден только один раз в жизни терял сознание, но тут он подумал, что сейчас это случится снова. Дыхание захватило у него в груди, а сердце забилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит. Никогда она не казалась ему столь доступной. На одно мгновение через бездну, их разделявшую, был перекинут мост. Но его чувства не стали от этого менее возвышенными. Она не опустилась до него. Это он поднялся за облака и приблизился к ней. Его любовь, как и прежде, была полна религиозного благоговения. Ему почудилось, что он вторгся в святая святых некоего храма, и он осторожно отвел голову, чтобы избежать этого прикосновения, действовавшего на него, как электрический заряд. Но Руфь ничего не заметила.
"Господи! Я хоть сейчас умру за тебя! Хоть сейчас" (c)
"Кончил петь - не трону струн.
Замирают песни быстро,
Так под ветром гаснут искры.
Кончил петь - не трону струн.
Пел когда-то утром чистым -
Вторил дрозд веселым свистом.
Стал я нем, скворец усталый.
Песен в горле не осталось,
Время пенья миновалось.
Кончил петь - не трону струн". (c)
"Мартин Иден" Джека Лондона поистине завораживающее произведение. Будоражит своей оригинальностью и своей безысходностью. Мартин - привлекательны молодой человек, которого природа наградила талантом писать и на протяжении всего произведения он гонится за признанием, к которому стремится из-за своей возлюбленной буржуази, Руфь. Странная вещь, как только Руфь оставляет его, голодного, бедного и ненужного никому - к нему приходит слава. Он получает огромнейшие гонорары, на него сыплется бесчетное количество предложений от редакций и каждый, кто когда-то воротил от него нос, приглашает его отобедать. А в Мартине что-то ломается в тот момент, когда Руфь его предает, когда он понимает, что она больше в него не верит, не верит в их любовь и он замечает, что любовь "так примитивна и вульгарна, что должна питаться внешним успехом и признанием толпы". Он добивается успеха и, казалось бы, вернись она к нему теперь, они могли бы быть вместе, но Мартин выше всего этого, он не может понять ее предательства, хоть и прощает, но понять не может. Здесь я привожу, на мой взгляд, наиглавнейший монолог в произведении, который четко дает понять его чувства и объясняет его поведение:
"Почему ты не решилась на это раньше? - резко спросил он. Когда у меня не было работы? Когда я голодал? Когда я был тот, что теперь, - как человек, как художник, тот же самый Мартин Иден? Вот вопрос, над которым я бьюсь уже много дней, - это не только тебя касается, но всех и каждого. Ты видишь, я не изменился, хотя меня вдруг стали очень высоко ценить и приходится все время напоминать себе, что я - прежний. Та же плоть у меня на костях, те же самые пальцы на руках и ногах. Я тот же самый. Я не стал ни сильнее, ни добродетельнее. И голова у меня все та же. Я не додумался ни до единого нового обобщения ни в литературе, ни в философии. Как личность, я стою ровно столько же, сколько стоил, когда никому не был нужен. А теперь чего ради я им вдруг понадобился, вот что непостижио. Сам по себе я им наверняка не нужен, ведь я все такой же, как прежде, когда не был им нужен. Значит, я нужен им из-за чего-то еще, из-за чего-то, что вне меня, из-за того, что не я! Сказать тебе, в чем соль? Я получил признание. Но признание - вовсе не я. Оно обитает в чужих умах. И еще я всем нужен из-за денег, которые заработал и зарабатываю. Но и деньги - не я. Они есть и в банках и в карманах первого встречного. Так что же, из-за этого я тебе теперь понадобился - из-за признания и денег?"
И на ее предложение быть снова вместе он говорит: "только теперь и понял, как я болен. Что-то ушло из меня. Я никогда не боялся жизни, но у меня и в мыслях не было, что я могу ею пресытиться. А теперь я сыт по горло и ничего больше не хочу. Если бы я мог чего-то хотеть, я сейчас пожелал бы тебя".
Получив удар от одного человека, вполне может утешить другой, ведь мир не может быт настолько жесток. У него есть такой человек, Лиззи, простая девушка, очень привлекательная, влюбленная в него, но и ее он отвергает, он говорит, что мог бы сделать ее счастливой, но вместо себя предлагает только деньги. Мартин, заработав столько денег, вообще не имеет представления, как ими распоряжаться, в бакалейную лавку он больше не заходит, предпочитая питаться в ресторанах, да и вообще, он желанный гость на каждом мероприятии и вполне может не тратить на свое пропитание ни цента. За что я оценила Мартина, так это за то, что он помогает подняться тем людям, которые в него верили до конца, которые были с ним, когда он был голоден и никем не признан. Он покупает прачечную своему другу-бродяге, покупает дом португалке, у которой жил, и ни один истинный друг не остался без щедрости Мартина. Но от этого, увы, он не чувствует себя ни лучше, ни нужнее.
Беда Мартина в том, что пережив одно потрясение, он уже никогда не смог подняться и с тех пор не написал больше ни одного произведения, продолжая публиковать давно написанные, на этом и нажился. Он остался все тем же Мартином, но с огромным состоянием, которое ему не оказалось нужно, потому что в тот момент, когда он узнал, что его опубликуют, рядом не было Руфь. Если бы она была рядом, если бы она не оставила его, не сказала ему, что он позорит ее и ее семью, он бы не пошел ко дну так легко.
Мартин Иден заставил меня задуматься, а сколько в мире таких людей, которых бросили, оставили наслаждаться их миллионами в одиночку? Да, они признаны, но каждый ли умеет в наше время прощать? И почему, собственно, мы так поклоняемся деньгам и всем, что с ними связано? Деньги - всего лишь средство, оно не призвано покупать ни любовь ни друзей. И, если оно и купит вам любовь или друга, оно всего лишь призрачно напомнит их...
МАРТИН ИДЕН
Есть книги, которые остаются с тобой на всю жизнь. Это вовсе не значит, что они постоянно находятся на твоем рабочем столе и ты их бесконечно перечитываешь. Но они входят в твой ум и сердце и нет-нет напоминают о себе то мучительной болью, то благостным сравнением, то вопросом, заставляющим переосмыслить устоявшееся, изведанное, понятное.
Одной из таких книг для меня стал роман Джека Лондона «Мартин Иден». Прочитав его как положено в юности, я влюбился в главного героя, стремился подражать ему. А выйдя из юношеского возраста, объявил (и, видимо, это тоже положено) такое восприятие книги детством. Действительно, восхищение и подражание ушли вместе с детством, но нежные чувства и привязанность остались.
Подобное вступление вполне позволяет сказать: вот почему я решился на экранизацию произведения Джека Лондона.
Однако в данном случае на вопрос, который столь часто задается режиссерам и не менее часто пародируется юмористами: «Как возник ваш замысел?», я могу ответить гораздо конкретнее: море мне подарило сказку, сказка подсказала замысел.
В Грузии снимал короткометражный фильм «Удочка и сейнер». И, конечно, не только стремился изучить строение судна, но и выйти на нем в море. Под Сухуми познакомился и подружился с моряками. Вместе с ними отправлялся в короткие рейсы. Однажды морская застава разрешила нашему сейнеру подойти к водной границе с Турцией. Наверное, это уже взволновало воображение. Повернули мы с первыми сумерками. Тут-то и появились дельфины - мать, отец и детвора. Они выпрыгивали из воды, кувыркались, с удовольствием лопали угощения, бросаемые щедрой рукой кока, и мчались за нами вслед. Не хотелось думать о том, что вот сейчас упадет темная южная ночь и скроет от глаз веселое семейство. Но вместе с темнотой и пришла сказка. По законам этого времени года море зажглось фосфоресцирующим светом. Тысячи крошечных существ, простившись с жизнью, утверждали ее красоту манящим сиянием. На фоне черного неба эта светящаяся вода, бурлящая под винтом нашего сейнера, в которой резвились опекаемые родителями дельфинята, казалось, открывала мудрую тайну мироздания. Неожиданно яркий свет пронзил черную стену неба. Зовущий луч сухумского маяка. Вместе с ним возникла мысль, которая в любой другой обстановке показалась бы просто банальной: жизнь человека - корабль, на котором он, как к лучу маяка, движется к своей цели, мечте, сверхзадаче. Ему никогда не удается достигнуть заветного. Даже если во мнении большинства он - гений и добился невозможного. Потому что и гений наедине с собой недоволен, так как понимает: не дотянул, ибо слишком коротка жизнь - двадцать ли ты лет прожил, сорок, сто... Мечта всегда больше отпущенного тебе временного отрезка. Но само стремление к идеалу в какой-то степени помогает преобразить жизнь. Да и может ли быть иначе, если даже моллюск и водоросли, уйдя из жизни, одаривают ее фосфоресцирующей красотой. Так почему же не боящийся опасностей, сильный человек, такой, как Мартин Иден, сам обрывает отпущенный на его долю отрезок времени? Потому что мечта, красота и справедливость мира исчезает для него раньше физической смерти. Нет больше светящегося моря, резвящихся дельфинов, манящего луча маяка. Большая, сильная, честная натура не может мириться с этим, не может изменить себе и не желает жить мертвым человеком.
Подходя на сейнере к ночному Сухуми, я решил, что непременно поставлю на телевидении роман Джека Лондона «Мартин Иден».
Однако в Грузии это сделать не удалось - главным препятствием было несовершенство телетехники. Но я не отказывался от своего намерения. После закрытия редакции цветных программ Центрального телевидения, перейдя в отдел классики литдрамы ЦТ, каждый год вносил в свою творческую заявку это произведение. И год за годом «Мартин Иден» почему-то вычеркивался. Все же справедливость восторжествовала, упрямая настойчивость была вознаграждена - мне разрешили поставить по роману телеспектакль и даже самому написать инсценировку. Задача сложная, если вспомнить объем и многоплановость произведения. Нечего было и думать о быстром завершении этой работы в повседневной текучке. Но близился отпуск, на который не без оснований рассчитывал. И вот еду отдыхать в Софрино. Беру на вооружение метод Джека Лондона: когда ему не писалось, он все равно садился за стол и заставлял себя делать описания различных предметов, добиваясь тем самым творческого настроя. Я не всегда обращался к посторонним предметам, но поблажек себе не давал. Переводя повествование в драматургию, следовал роману, но, идя на вынужденные сокращения, вводил порой монологи и диалоги, которых в произведении не было. И еще решился не только говорить о том, как писал Иден, но и оживить на экране некоторые его новеллы. А поскольку общепризнанно, что герою романа присущи многие черты автора, обратиться для этого именно к рассказам Джека Лондона.
К концу отпуска инсценировка была готова. Готов был и режиссерский сценарий. Его делать оказалось нетрудно, потому что я отчетливо видел то, что инсценировал. Пожалуй, лишь финал потребовал напряженных раздумий. Как в условном мире декораций показать всю трагичность добровольного ухода человека из жизни, эту, лишенную каких бы то ни было внешних эффектов, самоутопляемость? Но решение пришло вместе с предсмертным монологом Мартина.
Инсценировка получилась большой, слишком большой по отношению к отпущенному на нее экранному времени. И тут я должен сказать самые теплые слова благодарности в адрес прекрасного редактора литдрамы Бэтти Иосифовны Шварц. Ей удалось так провести сокращения, что это не сказалось отрицательно на содержании спектакля в целом. Шварц работала почти месяц. В течение которого я выдерживал штурм по поводу вставных новелл Джека Лондона. Меня убеждали, что это против всяких правил и потому невозможно, но убедить так и не смогли. Новеллы остались. Пора было приступать непосредственно к постановке спектакля. И сразу же вставало множество вопросов. Первый, как решать оформление? Съемки на натуре, уместные в фильме, неприемлемы для спектакля, рисованные декорации разнообразных мест действия - не по карману телевидению. Средства, отпускаемые на спектакль, незначительны. Надо было найти выход. Простой и интересный вариант предложила художница Ольга Левина: события должны развертываться на фоне больших фотографий. В этом была условность, созвучная условности перевода эпического повествования в сценическое действо, когда главным становится не среда - она лишь обозначена, - а достоверность человеческих отношений. Ольга разобрала массу иллюстраций начала двадцатого века и нашла то, что было необходимо спектаклю. Созданные художницей фотофоны были весьма любопытны и ни у кого не вызывали чувства дискомфорта. Оформление диктовало и цветовую игру: фотографии были черно-белыми, а действующие лица жили в цветном изображении. И только две сцены решались в черно-белых тонах - вставные новеллы. Мы взяли северные рассказы Джека Лондона - «Однодневная стоянка» и «Конец сказки». Оператор Борис Лазарев (первая наша с ним большая работа - «Театр Клары Газуль») в то время, время своего становления, находился в постоянном творческом поиске. Он-то и предложил снять новеллы в «зимних тонах». Цвет отключили, камера работала в черно-белом режиме через голубой фильтр. Все казалось заснеженно-холодным. Вместе с тем создавался какой-то особенный романтический колорит. Исполнители главных ролей спектакля были и действующими лицами вставных новелл - зритель вполне мог почувствовать себя свидетелем того, как окружающая действительность преображается в воображении писателя, как рождается художественное произведение.
Я стремился к подчинению всех художественных элементов спектакля актеру.
Самым сложным в работе над произведением Лондона был для меня выбор актеров на роли. И прежде всего поиски Мартина Идена. Общеизвестно, что каждый читатель видит по-своему героя полюбившейся книги. Поэтому конкретно решить образ так, чтобы он был одобрен всеми, наверное, невозможно. Однако в данном случае режиссер получал такой шанс. Ведь, если роман во многом автобиографичен, то и внешне Иден мог походить на Лондона. Следовательно, и актера надо было искать, глядя на портрет писателя. Но при этом актер должен был суметь раскрыть и сложный внутренний мир Мартина - непростая задача.
За многие годы для меня стало традиционным смотреть курсы, которые в Щукинском училище ведет Катин-Ярцев. Не только из уважения к Юрию Васильевичу, но и из корыстных побуждений - рассчитываю увидеть актеров, которых со временем смогу пригласить в свои будущие постановки. И вот, думая над образом Идена, я вспомнил один такой просмотр, чуть ли не четырехлетней давности. Разыгрывался этюд на французском языке из «Войны и мира». Почти не было слов у Пьера Безухова. Все решала пластика, мимика. Этот мальчик и должен играть Идена. Впрочем, какой же мальчик, если он уже окончил институт и работал в театре «Современник». Но справится ли молодой актер с такой большой и сложной ролью? Подобные сомнения, как показала наша встреча с Ю. Богатыревым, одолевали не только меня. По глазам Юры было видно, что ему очень хочется сыграть роль. Но он признался мне, что уверенности в успехе нет. И тогда мы заключили джентльменское соглашение: Юра начинает репетировать, но каждый из нас оставляет за собой право в случае неудачи без взаимных обид отказаться от затеи. Для себя я положил Богатыреву испытательный срок - месяц. Однако уже через две недели, в течение которых мы провели несколько домашних репетиций, где много беседовали, читали текст вслух, обсуждали прочитанное, показали, что выбор сделан верно. Но мои убеждения поначалу разделял только Катин-Ярцев. Редсовет встретил кандидатуру Богатырева в штыки. Ко мне подходили разные люди и убеждали в том, что я ошибся, что молодой человек ни за что не вытянет; предлагали другие кандидатуры, среди которых были звезды, как восходящие, так и те, кто прочно сиял на небосклоне. Но при всем моем уважении к этим актерам я не мог представить их в роли Идена так, как представлял Богатырева. Поэтому подобных разговоров стремился избегать. Все решила сдача спектакля. Если «Театр Клары Газуль» мы просто играли на зрителя, то с «Мартином Иденом» было иначе. Актеры собрались за большим столом, и началась читка по ролям, разыгрывались лишь отдельные эпизоды. Сдача показала - Мартин найден. Богатырева признали даже ярые противники.
Правда, ни у кого не вызвала особых замечаний и актриса, исполнявшая Руфь. Но когда мы вышли на площадку перед камерами, я понял, что у меня не хватит ни режиссерского, ни педагогического таланта сделать с ней роль. Это мой грубейший, непростительный просчет. Непростительный потому, что снятие актера, а тем более актрисы со спектакля, который она уже начала репетировать, нанесет ей огромную психологическую травму. А не снять - значит провалить спектакль, ведь без Руфи нельзя понять трагедию Идена, провалить и саму актрису, что также преступно. Помню, с каким ужасным чувством я отправился в общежитие объявить Наташе, не буду называть ее фамилию, о своем решении. Ее короткое согласие и выражение глаз заставили меня возвращаться из общежития в еще более ужасном состоянии...
Итак, надо было искать Руфь. Ирина Печерникова пришла к нам в середине репетиционного процесса. Догонит ли? Мне кажется, что за короткий промежуток времени Ире удалось очень многое. Понимая, что дней не хватает, вместе с Юрой Богатыревым они оставались репетировать по ночам. В основном образ актрисой был решен. Вот, что писал о спектакле Д. Урнов, наиболее строго подошедший к работе И. Печерниковой: «Да, он в точности такой, этот Мартин Иден в исполнении Юрия Богатырева. Даже не в исполнении, а в обличии: настолько образ персонажа соединился с индивидуальностью артиста. И Руфь Морз - Ирина Печерникова - она! Правда, не вполне удались ей речь и манеры… а по существу впечатления - и она в точности. Почти все лица и обстановка на экране, ну, просто, как в книге».
У Джека Лондона каждый персонаж - удивительно точно выписанный социальный тип и характер. Вот почему подбор актеров и на другие роли шел медленно, но, как оказалось, верно. Бриссендена интересно сыграл Л. Филатов, Джо - Е. Карельских, Марию Сильву - З. Славина, Гертруду - Н. Архипова, мистера Морза - Н. Тимофеев. Не могу не остановиться особо на встрече с О. Остроумовой и Н. Гриценко.
Не так много сцен в романе посвящено Лиззи Конноли, но образ этот необыкновенно важен. Мне хотелось найти актрису внешне столь же красивую, сколь красива избранница Идена, при этом сумеющую в немногих эпизодах раскрыть характер и внутренний мир Лиззи. Заставить зрителей увидеть и почувствовать, несколько простая фабричная работница выше рафинированной аристократки Руфи Морз и в своих чувствах, и в своих поступках, какой она бесконечно добрый, нежный и сильный человек. Мне представлялось резонным, чтобы именно Лиззи увидел Мартин героиней своего рассказа, такого, как «Конец сказки» Джека Лондона, хотя, не первый взгляд, мягкая Лиззи и своевольная Медж не похожи друг на друга. Но им обеим присущи цельность чувства, умение подлинно любить и жертвовать своим счастьем во имя любимого.
Итак, актрисе предстояло сыграть и Лиззи, и Медж. Претенденток было много, красивых, талантливых, но вот эта природная доброта Конолли... Сыграть ее почти невозможно, особенно на телевидении, где экран безжалостно обнажает даже самый минимальный, искусно замаскированный подлог.
Ольга Остроумова в то время уже снималась в кино, играла в театре, но у нее еще не было тех ролей, которые впоследствии принесли известность. Однако при первом знакомстве чувствовалось какое-то внутреннее обаяние актрисы. И первое ощущение, как показало дальнейшее, не было обманчивым. Она не сразу согласилась на роль. Перечитала роман, какое-то время думала и, вот, взялась. Работала трудно. Возможно потому, что ей присуще идти от сложного к простому. Находить внешний рисунок образа, опираясь на его внутреннее осмысление, на глубокое вживание в мироощущение своей героини. Но как мне казалось, ее Лиззи и Медж получились убедительными. Во всяком случае, бесспорно, что ставшее актерским афоризмом - «ищи глаза героя, иначе никакие приклеенные бороды тебе не помогут», - Олей было взято на вооружение весьма действенно. Взгляд Лиззи Коннолли говорил гораздо больше, нежели слова. Особенно в сцене прощания с Иденом.
Актерские и человеческие качества Ольги Остроумовой убеждали меня в том, что спектакль «Мартин Иден» не последняя наша встреча. И, действительно, Оля стала несколько позднее исполнительницей главной роли другого моего спектакля «Когда-то в Калифорнии». Вместе со сценаристом А. Руденко-Десняком мы объединили три рассказа известного американского писателя-романтика Ф. Брет-Гарта «Почтмейстерша (О. Остроумова) из Лорен-Рэна», «Новый помощник учителя (Ю. Богатырев) в Спайн-Клиринге» и «Как я попал на прииски». В это несколько необычное действо были приглашены также Екатерина Райкина, Григорий Абрикосов, Владимир Коваль, Альберт Буров, Александр Павлов и целая ватага актерских детей - юные тогда, а ныне сами профессиональные актеры А. Табаков, К. Козаков, А. Яковлев, А. Евлахишвили. Репетировали они, как впрочем и взрослые, с большим удовольствием: надо было и похулиганить, и пострелять... Это был очень веселый спектакль с танцами, трюками, песнями - истинное детище развлекательной программы ЦТ. И работали мы над ним, включая композитора Алексея Мажукова, автора текстов песен Леонида Филатова, закадровых исполнительниц главных вокальных партий Аллу Пугачеву и Нину Бродскую, легко и радостно. Интересно, что ставили Брет-Гарта, исходя из чисто театральных законов, на время позабыв о телевидении. И только когда спектакль был готов, вместе с художником О. Левиной, композитором А. Мажуковым, оператором Б. Лазаревым начали думать над его телевизионным решением.
Постановка множество раз была в эфире. Успех ее в немалой степени обеспечили исполнители главных острохарактерных ролей Е. Райкина, Ю. Богатырев, О. Остроумова.
Думаю, что у многих режиссеров, приступающих к новой постановке, возникает желание непременно увидеть в ней актера, уже покорившего режиссерское воображение. Для меня таким актером был Н. Гриценко. Я восхищался им и будучи студентом Щукинского училища, и став актером и режиссером в Ленинграде. Но это было восхищение из зрительного зала перед тем, кто на сцене. И вот, еще в редакции цветных программ, узнаю, что очередной сдачей, а как главный режиссер я всегда на них присутствовал, будет сдача спектакля «Забыть свое прошлое». Автор пьесы Г. Саркисян, режиссер Е. Симонов, играют вахтанговцы. Наступает назначенный день. За столом собираются актеры и приступают к читке по ролям. Звучит бархатный голос Яковлева, интересен Шалевич. Каким предстанет Гриценко? Боже мой, признанный мастер еле-еле, по слогам, читает текст, игнорируя логические ударения. Во мне вскипают чисто административные страхи: должны начаться съемки, известен день эфира, а героя нет. Понимая, что происходит в душе Евлахишвили, Симонов делает знак, дескать, не волнуйся и со свойственным ему красноречием начинает объяснять Гриценко, кого тому надо играть - арийца голубых кровей. Николай Олимпиевич сидит обмякший, тусклый, подперев щеку и прикрыв один глаз рукой. Однако судя по выражению другого глаза, слушает. Исчерпав свои доводы в течение каких-то пяти минут, Евгений Рубенович просит повторить сцену. Я не могу заткнуть уши, чтобы не слышать убогого бормотания моего кумира, но опускаю глаза, чтобы не видеть его позора. Хотя какое бормотание, какая читка текста?.. Где тусклый, обмякший человек, где Гриценко? Перед нами аристократ по воспитанию, по рождению, по родословной: небрежный, блистательный, и при всем этом делец. Как за несколько минут могла произойти такая метаморфоза? Ум, сердце - что помогало ему так точно нафантазировать и слиться с фантазией? Ни у одного актера никогда больше я не видел таких феноменальных способностей.
Рассказывали, что Рубен Симонов с некоторым страхом ждал появления Гриценко на репетиции потому, что если другие актеры имели один, реже два варианта роли, то у Гриценко их могло быть десять и более. Как-то я шел вместе с ним по Арбату от театра Вахтангова до Смоленской площади, не знаю, замечал ли это Николай Олимпиевич, во всяком случае разговора мы не прерывали, но в его облике, как в зеркале, отражались идущие навстречу прохожие: кособоконький человек с портфелем, самодовольный чинуша... Создавалось впечатление, что он механически копировал и запоминал заинтересовавшие его типы. Может быть, именно так находил он краски для будущих ролей? Ведь от спектакля к спектаклю даже одного и того же персонажа всякий раз играл по-новому. В самом крошечном эпизоде умудрялся найти удивительно точный образ. Помню, в спектакле театра Вахтангова «День деньской» Николай Олимпиевич должен был изобразить приезжего из глубинки, идущего на аудиенцию к директору крупного завода. Он входит в приемную, на лацкане пиджака ордена, медали. Но как идет? Какой-то неуверенной, странной походкой. Не обратить внимания невозможно. Что такое? Но вот человек при орденах садится ждать и... снимает туфли. Как на ладони многим знакомый образ приехавшего из провинции, одевшего на прием к начальству все лучшее, в том числе и новую обувь, которая невыносимо жмет.
Его считали актером номер один и режиссеры, и собратья по ремеслу. Он играл в театре, снимался в кино. Запомнился зрителям и своим Рощиным, и Карениным, и Шадриным, и Грацианским, и Протасовым, и иными ролями, но в нем был такой заряд энергии, что всего этого было недостаточно. Он не создал образ Моцарта, Сирано де Бержерака, как, впрочем, и многих других героев, образы которых должен был бы создать. Этот разлад между желаемым и возможным, мне кажется, и толкал его к Бахусу.
Среди пьющих актеров я знал очень талантливых. Однако под влиянием Бахуса талант их тускнел. С Гриценко этого не происходило.
На телевидении я делал о нем большую передачу - его творческий портрет. Необходимо было снять фрагмент из спектакля «На золотом дне» Д. Мамина-Сибиряка, где Николай Олимпиевич играл Молокова, вызывая зрительские овации и восторги критиков. Вздыбленный своей силой, которую приложить ему некуда, Тихон Молоков - буян и самодур. Однако в том состоянии, в котором Гриценко прибыл в студию, и буянить-то было невозможно. Казалось, он совершенно отключился и пребывал в бессознательном состоянии. Следовало отменить съемку, но вахтанговцы уезжали на гастроли. Отказаться от фрагмента?.. И тут Юлия Борисова, также занятая в сцене, сказала мне: «Возмутитесь, прикрикнете, он соберется». И обратилась к операторам: «Но это будет только один дубль». Крикнуть на Гриценко я не мог. Придав голосу свирепость, обратился к нему: «Николай Олимпиевич, как вы можете...» И вдруг он тихо ответил: «Сейчас, сейчас». Произошло, казалось, невозможное. Включилась актерская воля. Он встал, собрался и сыграл так замечательно, как, по свидетельству хорошо знавших его людей, не играл той сцены ни до, ни после. А потом упал, как подкошенный. Бахус не мог сладить с его талантом, но он отнимал у него жизнь.
Конечно же, я мечтал о том, чтобы Гриценко сыграл в одном из моих спектаклей. Мысленно перебирая роли в «Мартине Идене», видел его и Морзом, и одним из окружавших того дельцов, но особенно привлек меня образ мужа Гертруды. Роль небольшая, Гриценко, а характер у него был крутой, мог и обидеться. И все же я послал ему через ассистента сценарий. Актер предложение принял.
С ним не надо было работать, нужно было только дать толчок его фантазии: каков он, этот человек, которого надо играть. Муж сестры Идена запомнился, особенно в сцене, когда Мартин предлагает ему деньги, чтобы Гертруда никогда больше не знала тяжкого труда. Всегда ровный голос Гриценко тут срывался на две визгливые ноты. И эта деталь, краска помогла вскрыть внутреннюю сущность играемого персонажа.
Для меня до сих пор остается необъяснимым феномен Жана Габена, его внутренние перевоплощения. Николай Гриценко от роли к роли менялся не только внутренне, но и внешне. Я пытался узнать, как это ему удается, что значит для него творческий процесс? Он не мог ответить ничего определенного. Казалось, что для Николая Олимпиевича это так же естественно, как воздух, которым дышим.
Мы мечтали с ним поставить «Венецианского купца». Но не пришлось. Гриценко попал в больницу и вскоре ушел из жизни, так и не раскрыв тайну своего удивительного дара. Написано о нем крайне мало. И мне кажется, святой долг всех, кто работал с ним бок о бок много лет, кто считался его другом, исправить эту несправедливость, написать о Гриценко, рассказать о нем и тем самым, возможно, приоткрыть неразгаданную тайну его таланта.
«Мартин Иден» вышел на телеэкран. Мы получили множество писем зрителей, свидетельствовавших о признании спектакля, весьма по-доброму откликнулась и критика. По свидетельству работников библиотек, после нашей премьеры произведения Джека Лондона исчезли с полок. Зритель потянулся к книгам писателя, значит, удалось главное. И все же момент, омрачающий радость, был. И до сих пор заставляет болеть сердце. В начале нашего спектакля, в кульминационные моменты жизни Мартина, в конце постановки по задумке звучали баллады в исполнении певца-бродяги. Музыка А. Мажукова, слова Л. Филатова. Баллады придавали особое эмоциональное дыхание, приподнимали спектакль, помогали лучше понять внутренний мир главного героя. И вот, когда работа была уже завершена, меня вызвали к начальству и велели убрать баллады. Якобы они не связаны с сюжетом, ведь в них говорится о свободе творчества и художника, о том, как это воспринимает общество порой... Я не соглашался, отстаивал. Но с нами тогда говорили просто: «Или вы уберете баллады, или не выпустим спектакль». И я пошел на компромисс - вырезал баллады.
«Приятна стремительная музыка композитора А. Мажукова, периодически сопровождающая действие, и озорная песенка «о чуде, имя которому любовь», исполняемая «негритянкой» под фонограмму Нины Бродской в стиле нью-орлеанского диксиленда начала этого века», - находим в статье В. Довбнич, находим и продолжение о том, что, однако, звуковой фон не столько обогащает литературный образ спектакля, сколько условно обытовляет его, не отражая душевно-психологическое состояние героев. Кто в этом виноват? Режиссер. Потому что не должен был идти на компромисс, не веруя в его праведность, хотя бы «Мартину Идену» и пришлось полежать на полке.
Из книги Как появилась Библия автора Эдель Конрад Из книги «Матрица» как философия автора Ирвин Уильям Из книги История диджеев автора Брюстер Билл Из книги Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. автора Коллектив авторовХайдеггер (Heidegger) Мартин (1889–1976) Крупнейший немецкий мыслитель XX столетия, один из наиболее влиятельных идеологов постмодернистского сознания (см.: Постмодернизм), оказал огромное воздействие на современную западную эстетику и философию искусства. Изучал философию в
Из книги Еврейский мир автора Телушкин ДжозефГлава 108 Мартин Лютер и протестантская реформация Мартин Лютер (1483–1546) - ярчайший пример человека, который любил евреев, но возненавидел их после того, как они отказались принять его идеологию (см. также «Мухаммад»).В начале своего пути католический монах, восставший
Из книги Нацизм и культура [Идеология и культура национал-социализма автора Моссе ДжорджГлава 125 Мартин Бубер (1878–1965). Я и ты Поскольку рассказывание всяких притч было для Бубера главным методом обучения своей «философии жизни», уместно начать эту главу со случая, происшедшего с самим Бубером, - случая, который, по его словам, определил всю его жизнь. Молодой
Из книги 125 запрещённых фильмов: цензурная история мирового кинематографа автора Соува Дон Б Из книги 1000 мудрых мыслей на каждый день автора Колесник Андрей АлександровичМАРТИН ЛЮТЕР MARTIN LUTHER Страна-производитель и год выпуска: США, 1953Компания-производитель / дистрибьютор: De Rochemont / Luther Filmgesellshaft GmbH / Американская лютеранская церковьФормат: звуковой, черно-белыйПродолжительность: 105 минЯзык: английскийПродюсер: Луи Де РошмонРежиссер: Ирвинг
Из книги Антисемитизм: концептуальная ненависть автора Альтман ИльяМартин Лютер (1483–1546) религиозный деятель... Ложь всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли она или лежит в покое; лишь когда она мертва, она пряма и не притворяется. ... Человеческий ум похож на пьяного ездока: когда его приподнимают с одного
Из книги Законы успеха автора Кондрашов Анатолий ПавловичМартин Хайдеггер (1889–1976) историк, философ... Все пути мысли более или менее ощутимым образом загадочно ведут через язык. ... Человек – носитель вести, которую ему вручает открытие двусложности. ... Для восточноазиатских и европейских народов существо языка остается
Из книги автораМартин Лютер Кинг (1929–1968) священник, борец за гражданские права... Любовь – это образ Бога, и не безжизненное Его подобие, а живая сущность божественной природы, лучащаяся добротой. ... Любовь – единственная сила, способная любого врага превратить в друга. ... Принимающий
Из книги автора Из книги автораКинг Мартин Лютер Мартин Лютер Кинг-младший (1929–1968) – один из лидеров борьбы за гражданские права афроамериканцев в США, лауреат Нобелевской премии мира (1964). Главное мерило человека не в том, на чем он стоит во времена тихие и спокойные, а в том, какую позицию он