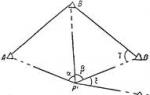Томас манн - смерть в венеции. Лекция: Тематика и поэтика новеллы «Смерть в Венеции» Манна Цитаты из новеллы “Смерть в Венеции”
Томас Манн
СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ
Густав Ашенбах, или фон Ашенбах, как он официально именовался со дня своего пятидесятилетия, в теплый весенний вечер 19… года - года, который в течение столь долгих месяцев грозным оком взирал на наш континент, - вышел из своей мюнхенской квартиры на Принцрегентштрассе и в одиночестве отправился на дальнюю прогулку. Возбужденный дневным трудом (тяжким, опасным и как раз теперь потребовавшим от него максимальной тщательности, осмотрительности, проникновения и точности воли), писатель и после обеда не в силах был приостановить в себе работу продуцирующего механизма, того «totus animi continuus», в котором, по словам Цицерона, заключается сущность красноречия; спасительный дневной сон, остро необходимый при все возраставшем упадке его сил, не шел к нему. Итак, после чая он отправился погулять, в надежде, что воздух и движение его приободрят, подарят плодотворным вечером.
Было начало мая, и после сырых и промозглых недель обманчиво воцарилось жаркое лето. В Английском саду, еще только одевшемся нежной ранней листвой, было душно, как в августе, и в той части, что прилегала к городу, - полным-полно экипажей и пешеходов. В ресторане Аумейстера, куда вели все более тихие и уединенные дорожки, Ашенбах минуту-другую поглядел на оживленный народ в саду, у ограды которого стояло несколько карет и извозчичьих пролеток, и при свете заходящего солнца пустился в обратный путь, но уже не через парк, а полем, почувствовав усталость. К тому же над Ферингом собиралась гроза. Он решил у Северного кладбища сесть в трамвай, который прямиком доставит его в город.
По странной случайности на остановке и вблизи от нее не было ни души. Ни на Унгарерштрассе, где блестящие рельсы тянулись по мостовой в направлении Швабинга, ни на Ферингском шоссе не видно было ни одного экипажа. Ничто не шелохнулось и за заборами каменотесных мастерских, где предназначенные к продаже кресты, надгробные плиты и памятники образовывали как бы второе, ненаселенное кладбище, а напротив в отблесках уходящего дня безмолвствовало византийское строение часовни. На его фасаде, украшенном греческими крестами и иератическими изображениями, выдержанными в светлых тонах, были еще симметрически расположены надписи, выведенные золотыми буквами, - речения, касающиеся загробной жизни, вроде: «Внидут в обитель господа» или: «Да светит им свет вечный». В ожидании трамвая Ашенбах развлекался чтением этих формул, стараясь погрузиться духовным взором в их прозрачную мистику, но вдруг очнулся от своих грез, заметив в портике, повыше двух апокалиптических зверей, охранявших лестницу, человека, чья необычная наружность дала его мыслям совсем иное направление.
Вышел ли он из бронзовых дверей часовни, или неприметно приблизился и поднялся к ней с улицы, осталось невыясненным. Особенно не углубляясь в этот вопрос, Ашенбах скорее склонялся к первому предположению. Среднего роста, тощий, безбородый и очень курносый, этот человек принадлежал к рыжеволосому типу с характерной для него молочно-белой веснушчатой кожей. Обличье у него было отнюдь не баварское, да и широкополая бастовал шляпа, покрывавшая его голову, придавала ему вид чужеземца, пришельца из дальних краев. Этому впечатлению, правда, противоречили рюкзак за плечами - как у заправского баварца - и желтая грубошерстная куртка; с левой руки, которою он подбоченился, свисал какой-то серый лоскут, надо думать, дождевой плащ, в правой же у него была палка с железным наконечником; он стоял, наклонно уперев ее в пол, скрестив ноги и бедром опираясь на ее рукоятку. Задрав голову, так что на его худой шее, торчавшей из отложных воротничков спортивной рубашки, отчетливо и резко обозначился кадык, он смотрел вдаль своими белесыми, с красными ресницами глазами, меж которых, в странном соответствии со вздернутым носом, залегали две вертикальные энергические складки. В позе его - возможно, этому способствовало возвышенное и возвышающее местонахождение - было что-то высокомерно созерцательное, смелое, дикое даже. И то ли он состроил гримасу, ослепленный заходящим солнцем, то ли его лицу вообще была свойственна некая странность, только губы его казались слишком короткими, оттянутые кверху и книзу до такой степени, что обнажали десны, из которых торчали белые длинные зубы.
Возможно, что Ашенбах, рассеянно, хотя и пытливо, разглядывая незнакомца, был недостаточно деликатен, но вдруг он увидел, что тот отвечает на его взгляд и притом так воинственно, так в упор, так очевидно желая его принудить отвести глаза, что неприятно задетый, он отвернулся и зашагал вдоль заборов, решив больше не обращать внимания на этого человека. И мгновенно забыл о нем. Но либо потому, что незнакомец походил на странника, либо в силу какого-нибудь иного психического или физического воздействия, Ашенбах, к своему удивлению, внезапно ощутил, как неимоверно расширилась его душа; необъяснимое томление овладело им, юношеская жажда перемены мест, чувство, столь живое, столь новое, или, вернее, столь давно не испытанное и позабытое, что он, заложив руки за спину и взглядом уставившись в землю, замер на месте, стараясь разобраться в сути и смысле того, что произошло с ним.
Это было желанье странствовать, вот и все, но оно налетело на него как приступ лихорадки, обернулось туманящей разум страстью. Он жаждал видеть, его фантазия, еще не умиротворившаяся после долгих часов работы, воплощала в единый образ все чудеса и все ужасы пестрой нашей земли, ибо стремилась их представить себе все зараз. Он видел: видел ландшафт, под небом, тучным от испарений, тропические болота, невероятные, сырые, изобильные, подобие дебрей первозданного мира, с островами, топями, с несущими ил водными протоками; видел, как из густых зарослей папоротников, из земли, покрытой сочными, налитыми, диковинно цветущими растениями, близкие и далекие, вздымались волосатые стволы пальм; видел причудливо безобразные деревья, что по воздуху забрасывали свои корни в почву, в застойные, зеленым светом мерцающие воды, где меж плавучими цветами, молочно-белыми, похожими на огромные чаши, на отмелях, нахохлившись, стояли неведомые птицы с уродливыми клювами и, не шевелясь, смотрели куда-то вбок; видел среди узловатых стволов бамбука искрящиеся огоньки - глаза притаившегося тигра, - и сердце его билось от ужаса и непостижимого влечения. Затем виденье погасло, и Ашенбах, покачав головой, вновь зашагал вдоль заборов каменотесных мастерских.
Давно уже, во всяком случае с тех пор как средства стали позволять ему ездить по всему миру когда вздумается, он смотрел на путешествия как на некую гигиеническую меру, и знал, что ее надо осуществлять время от времени, даже вопреки желаниям и склонностям. Слишком занятый задачами, которые ставили перед ним европейская душа и его собственное я, не в меру обремененный обязанностями творчества, бежавший рассеяния и потому неспособный любить шумный и пестрый мир, он безоговорочно довольствовался созерцанием того, что лежит на поверхности нашей земли и для чего ему нет надобности выходить за пределы своего привычного круга, и никогда не чувствовал искушения уехать из Европы. С той поры, как жизнь его начала клониться к закату и ему уже нельзя было словно от пустой причуды отмахнуться от присущего художнику страха не успеть, от тревоги, что часы остановятся, прежде чем он совершит ему назначенное и отдаст всего себя, внешнее его бытие едва ли не всецело ограничилось прекрасным городом, ставшим его родиной, да незатейливым жильем, которое он себе выстроил в горах и где проводил все дождливое лето.
И то, что сейчас так поздно и так внезапно нашло на него, вскоре было обуздано разумом, упорядочено смолоду усвоенной самодисциплиной. Он решил довести свое творение, для которого жил, до определенной точки, прежде чем переехать в горы, и мысль о шатанье по свету и, следовательно, о перерыве в работе на долгие месяцы показалась ему очень беспутной и разрушительной; всерьез об этом нечего было и думать. Тем не менее он слишком хорошо знал, на какой почве взросло это нежданное искушение. Порывом к бегству, говорил он себе, была эта тоска по дальним краям, по новизне, эта жажда освободиться, сбросить с себя бремя, забыться - он бежит прочь от своей работы, от будней неизменного, постылого и страстного служения. Правда, он любил его, едва ли не любил даже изматывающую, ежедневно обновляющуюся борьбу между своей гордой, упорной, прошедшей сквозь многие испытания волей и этой все растущей усталостью, о которой никто не должен был знать, которая ни малейшим признаком упрощения, вялости не должна была сказаться на его творении. И все же неблагоразумно слишком натягивать тетиву, упрямо подавлять в себе столь живое и настойчивое желание. Он стал думать о своей работе, о том месте, на котором застрял сегодня, так же как и вчера, ибо оно равно противилось и терпеливой обработке, и внезапному натиску. Он пытался прорваться через препятствие или убрать его с дороги, но всякий раз отступал с гневом и содроганием. Не то чтобы здесь возникли какие-нибудь особенные трудности, нет, ему мешала мнительная нерешительность, оборачивающаяся уже постоянной неудовлетворенностью собой. Правда, в юные годы эту неудовлетворенность он считал сущностью и природой таланта, во имя ее он отступал, обуздывал чувство, зная, что оно склонно довольствоваться беспечной приблизительностью и половинчатой завершенностью. Так неужто же порабощенные чувства теперь мстят за себя, отказываясь впредь окрылять и живить его искусство? Неужто они унесли с собою всю радость, все восторги, даруемые формой и выражением? Нельзя сказать, что он писал плохо; преимуществом его возраста было по крайней мере то, что с годами в нем укрепилась спокойная уверенность в своем мастерстве. Но, хотя вся немецкая нация превозносила это мастерство, сам он ему не радовался; писателю казалось, что его творению недостает того пламенного и легкого духа, порождаемого радостью, который больше, чем глубокое содержание (достоинство, конечно, немаловажное), составляет счастье и радость читающего мира. Он страшился лета, страшился быть одиноким в маленьком доме, с кухаркой, которая стряпает ему, и слугою, который подает на стол эту стряпню; страшился привычного вида горных вершин и отвесных скал, когда думал, что они снова обступят его, вечно недовольного, вялого. Значит, необходимы перемены, толика бродячей жизни, даром потраченные дни, чужой воздух и приток новой крови, чтобы лето не было тягостно и бесплодно. Итак, в дорогу - будь что будет! Не в слишком дальнюю, до тигров он не доедет. Ночь в спальном вагоне и две-три недели отдыха в каком-нибудь всемирно известном уголке на ласковом юге…
Густав Ашенбах в тёплый весенний вечер 19... года вышел из своей мюнхенской квартиры и отправился на дальнюю прогулку. Возбуждённый дневным трудом, писатель надеялся, что прогулка его приободрит. Возвращаясь назад, он устал и решил сесть на трамвай у Северного кладбища. На остановке и вблизи её не было не души. Напротив, в отблесках уходящего дня, безмолвствовало византийское строение - часовня. В портике часовни Ашенбах заметил человека, чья необычайная наружность дала его мыслям совсем иное направление. Это был среднего роста, тощий, безбородый и очень курносый человек с рыжими волосами и молочно-белой веснушчатой кожей. Широкополая шляпа придавала ему вид пришельца из далёких краёв, в руке у него была палка с железным наконечником. Внешность этого человека пробудила в Ашенбахе желание странствовать.
До сих пор он смотрел на путешествия как на некую гигиеническую меру и никогда не чувствовал искушения покинуть Европу. Жизнь его ограничивалась Мюнхеном и хижиной в горах, где он проводил дождливое лето. Мысль о путешествии, о перерыве в работе на долгое время, показалась ему беспутной и разрушительной, но потом он подумал, что ему всё же нужны перемены. Ашенбах решил провести две-три недели в каком-нибудь уголке на ласковом юге.
Творец эпопеи о жизни Фридриха Прусского, автор романа «Майя» и знаменитого рассказа «Ничтожный», создатель трактата «Дух и искусство», Густав Ашенбах родился в Л. - окружном городе Силезской провинции, в семье видного судейского чиновника. Имя он составил себе ещё будучи гимназистом. Из-за слабого здоровья врачи запретили мальчику посещать школу, и он вынужден был учиться дома. Со стороны отца Ашенбах унаследовал сильную волю и самодисциплину. Он начинал день с того, что обливался холодной водой, и затем в продолжение нескольких часов честно и ревностно приносил в жертву искусству накопленные во сне силы. Он был вознаграждён: в день его пятидесятилетия император даровал ему дворянский титул, а ведомство народного просвещения включило избранные страницы Ашенбаха в школьные хрестоматии.
После нескольких попыток где-нибудь обосноваться, Ашенбах поселился в Мюнхене. Брак, в который он вступил ещё юношей с девушкой из профессорской семьи, был расторгнут её смертью. У него осталась дочь, теперь уже замужняя. Сына же никогда не было. Густав Ашенбах был чуть пониже среднего роста, брюнет с бритым лицом. Его зачёсанные назад, уже почти седые волосы обрамляли высокий лоб. Дужка золотых очков врезалась в переносицу крупного, благородно очерченного носа. Рот у него был большой, щёки худые, в морщинах, подбородок делила мягкая чёрточка. Эти черты были высечены резцом искусства, а не тяжёлой и тревожной жизни.
Через две недели после памятной прогулки Ашенбах отбыл с ночным поездом в Триест, чтобы следующим утром сесть на пароход, идущий в Полу. Он избрал для отдыха остров в Адриатическом море. Однако дожди, влажный воздух и провинциальное общество раздражали его. Вскоре Ашенбах понял, что сделал неправильный выбор. Через три недели после прибытия быстрая моторка уже увозила его к Военной гавани, где он сел на пароход, идущий в Венецию.
Облокотившись рукой о поручни, Ашенбах глядел на пассажиров, уже взошедших на борт. На верхней палубе стояли кучкой молодые люди. Они болтали и смеялись. Один из них, в чересчур модном и ярком костюме, выделялся из всей компании своим каркающим голосом и непомерной возбуждённостью. Вглядевшись в него попристальнее, Ашенбах с ужасом понял, что юноша поддельный. Под гримом и русым париком был виден старик с морщинистыми руками. Ашенбах смотрел на него, содрогаясь.
Венеция встретила Ашенбаха хмурым, свинцовым небом; время от времени моросил дождь. Омерзительный старик тоже был на палубе. Ашенбах смотрел на него нахмурившись, и им овладевало смутное чувство, что мир медленно преображается в нелепицу, в карикатуру.
Ашенбах поселился в большом отеле. Во время ужина Ашенбах заметил за соседним столиком польскую семью: три молоденькие девочки пятнадцати-семнадцати лет под надзором гувернантки и мальчик с длинными волосами, на вид лет четырнадцати. Ашенбах с изумлением отметил про себя его безупречную красоту. Лицо мальчика напоминало греческую скульптуру. Ашенбаху бросилось в глаза явное различие между мальчиком и его сёстрами, что сказывалось даже в одежде. Наряд молодых девиц был крайне незатейлив, держались они чопорно, мальчик же был одет нарядно и манеры его были свободны и непринуждённы. Вскоре к детям присоединилась холодная и величавая женщина, строгий наряд которой был украшен великолепными жемчугами. Видимо, это была их мать.
Назавтра погода не стала лучше. Было сыро, тяжёлые тучи закрывали небо. Ашенбах начал подумывать об отъезде. Во время завтрака он снова увидел мальчика и вновь изумился его красоте. Немного позже, сидя в шезлонге на песчаном пляже, Ашенбах опять увидел мальчика. Он вместе с другими детьми строил замок из песка. Дети окликали его, но Ашенбах никак не мог разобрать его имя. Наконец он установил, что мальчика зовут Тадзио, уменьшительное от Тадеуш. Даже когда Ашенбах не смотрел на него, он всё время помнил, что Тадзио где-то поблизости. Отеческое благорасположение заполнило его сердце. После второго завтрака Ашенбах поднимался в лифте вместе с Тадзио. Впервые он видел его так близко. Ашенбах заметил, что мальчик хрупкий. «Он слабый и болезненный, - думал Ашенбах, - верно, не доживёт до старости». Он предпочёл не вникать в чувство удовлетворения и спокойствия, которое охватило его.
Прогулка по Венеции не принесла Ашенбаху удовольствия. Вернувшись в отель, он заявил администрации, что уезжает.
Когда Ашенбах утром открыл окно, небо было по-прежнему пасмурно, но воздух казался свежее. Он раскаялся в поспешно принятом решении уехать, но менять его было уже поздно. Вскоре Ашенбах уже ехал на пароходике по знакомой дороге через лагуну. Ашенбах смотрел на прекрасную Венецию, и сердце его разрывалось. То, что утром было лёгким сожалением, теперь обернулось душевной тоской. Когда пароходик приблизился к вокзалу, боль и растерянность Ашенбаха возросли до душевного смятения. На вокзале к нему подошёл рассыльный из отеля и сообщил, что его багаж по ошибке был отправлен чуть ли не в противоположном направлении. С трудом скрывая радость, Ашенбах заявил, что без багажа никуда не поедет и вернулся в отель. Около полудня он увидел Тадзио и понял, что отъезд был ему так труден из-за мальчика.
На следующий день небо очистилось, яркое солнце заливало своим сиянием песчаный пляж, и Ашенбах уже не думал об отъезде. Мальчика он видел почти постоянно, встречал его повсюду. Вскоре Ашенбах знал каждую линию, каждый поворот его прекрасного тела, и не было конца его восхищению. Это был хмельной восторг, и стареющий художник с алчностью предался ему. Внезапно Ашенбаху захотелось писать. Он формировал свою прозу по образцу красоты Тадзио - эти изысканные полторы странички, которые должны были вскоре вызвать всеобщее восхищение. Когда Ашенбах закончил свой труд, он почувствовал себя опустошённым, его даже мучила совесть, как после недозволенного беспутства.
На следующее утро у Ашенбаха возникла мысль свести с Тадзио весёлое, непринуждённое знакомство, но заговорить с мальчиком он не смог - им овладела странная робость. Это знакомство могло бы привести к целительному отрезвлению, но стареющий человек не стремился к нему, он слишком дорожил своим хмельным состоянием. Ашенбах уже не заботился о сроке каникул, которые сам себе устроил. Теперь все свои силы он отдавал не искусству, а чувству, которое опьяняло его. Он рано поднимался к себе: едва исчезал Тадзио, день казался ему прожитым. Но только начинало светать, как его уже будило воспоминание о сердечном приключении. Тогда Ашенбах садился у окна и терпеливо дожидался рассвета.
Вскоре Ашенбах увидел, что Тадзио заметил его внимание. Иногда он поднимал глаза, и их взгляды встречались. Однажды Ашенбах был награждён улыбкой, он унёс её с собой, как дар, сулящий беду. Сидя на скамейке в саду, он шептал слова, презренные, немыслимые здесь, но священные и вопреки всему достойные: «Я люблю тебя!».
На четвёртой неделе своего пребывания здесь Густав фон Ашенбах почувствовал какие-то изменения. Число постояльцев, несмотря на то, что сезон был в разгаре, явно уменьшалось. В немецких газетах появились слухи об эпидемии, но персонал отеля всё отрицал, называя дезинфекцию города предупредительными мерами полиции. Ашенбах испытывал безотчётное удовлетворение от этой недоброй тайны. Он беспокоился только об одном: как бы не уехал Тадзио. С ужасом он понял, что не знает, как будет жить без него, и решил молчать о тайне, которую случайно узнал.
Встречи с Тадзио теперь уже не удовлетворяли Ашенбаха; он преследовал, выслеживал его. И всё же нельзя было сказать, что он страдал. Мозг и сердце его опьянели. Он повиновался демону, который топтал ногами его разум и достоинство. Одурманенный, Ашенбах хотел только одного: неотступно преследовать того, кто зажёг его кровь, мечтать о нём и нашёптывать нежные слова его тени.
Однажды вечером маленькая труппа бродячих певцов из города давала представление в саду перед отелем. Ашенбах сидел у балюстрады. Его нервы упивались пошлыми звуками и вульгарно-томной мелодией. Он сидел непринуждённо, хотя внутренне был напряжён, ибо шагах в пяти от него возле каменной балюстрады стоял Тадзио. Иногда он оборачивался через левое плечо, словно хотел застать врасплох того, кто его любил. Позорное опасение заставляло Ашенбаха опускать глаза. Он уже не раз замечал, что женщины, опекавшие Тадзио, отзывали мальчика, если он оказывался вблизи от него. Это заставляло гордость Ашенбаха изнывать в неведомых доселе муках. Уличные актёры начали собирать деньги. Когда один из них подошёл к Ашенбаху, он снова почувствовал запах дезинфекции. Он спросил у актёра, зачем дезинфицируют Венецию, и в ответ услышал только официальную версию.
На следующий день Ашенбах сделал новое усилие узнать правду о внешнем мире. Он зашёл в английское бюро путешествий и обратился к клерку со своим роковым вопросом. Клерк сказал правду. В Венецию пришла эпидемия азиатской холеры. Инфекция проникла в пищевые продукты и стала косит людей на тесных венецианских улочках, а преждевременная жара как нельзя больше ей благоприятствовала. Случаи выздоровления были редки, восемьдесят и ста заболевших умирали. Но страх перед разорением оказался сильнее честного соблюдения международных договоров и заставил городские власти упорствовать в политике замалчивания. Народ это знал. На улицах Венеции росла преступность, профессиональный разврат принял небывало наглые и разнузданные формы.
Англичанин посоветовал Ашенбаху срочно покинуть Венецию. Первой мыслью Ашенбаха было предупредить об опасности польскую семью. Тогда ему будет позволено коснуться рукою головы Тадзио; затем он повернётся и сбежит из этого болота. В то же самое время Ашенбах чувствовал, что он бесконечно далёк от того, чтобы всерьёз желать такого исхода. Этот шаг снова сделал бы Ашенбаха самим собою - этого он сейчас боялся больше всего. В эту ночь у Ашенбаха было страшное сновидение. Ему снилось, что он, покорный власти чуждого бога, участвует в бесстыдной вакханалии. От этого сна Ашенбах очнулся разбитый, безвольно покорившийся власти демона.
Правда выплыла на свет, постояльцы отеля спешно разъезжались, но дама с жемчугами всё ещё оставалась здесь. Ашенбаху, объятому страстью, временами чудилось, что бегство и смерть сметут вокруг него всё живое, и он один вместе с прекрасным Тадзио останется на этом острове. Ашенбах стал подбирать яркие, молодящие детали для своего костюма, носить драгоценные камни и опрыскиваться духами. Он переодевался несколько раз в день и тратил на это уйму времени. Перед лицом сладострастной юности ему сделалось противно собственное стареющее тело. В парикмахерской при гостинице Ашенбаху покрасили волосы и наложили на лицо грим. С бьющимся сердцем он увидел в зеркале юношу в цвете лет. Теперь он не боялся никого и открыто преследовал Тадзио.
Несколько дней спустя Густав фон Ашенбах почувствовал себя нездоровым. Он пытался побороть приступы тошноты, которые сопровождались ощущением безысходности. В холле он увидел груду чемоданов - это уезжала польская семья. На пляже было неприветливо и безлюдно. Ашенбах, лёжа в шезлонге и укрыв колени одеялом, опять смотрел на него. Вдруг, словно повинуясь внезапному импульсу, Тадзио обернулся. Тот, кто созерцал его, сидел так же, как и в день, когда этот сумеречно-серый взгляд впервые встретился с его взглядом. Голова Ашенбаха медленно обернулась, как бы повторяя движение мальчика, потом поднялась навстречу его взгляду и упала на грудь. Лицо его приняло вялое, обращённое внутрь выражение, как у человека, погрузившегося в глубокую дремоту. Ашенбаху чудилось, что Тадзио улыбается ему, кивает и уносится в необозримое пространство. Как всегда, он собрался последовать за ним.
Прошло несколько минут, прежде чем какие-то люди бросились на помощь Ашенбаху, соскользнувшему на бок в своём кресле. В тот же самый день потрясённый мир с благоговением принял весть о его смерти.
Ашенбах Густав фон — главный герой новеллы, действие которой начинается «в теплый весенний вечер 19... года» в Мюнхене, а потом переносится в Венецию. А. Г. ф., знаменитый писатель, недавно перешагнувший рубеж пятидесятилетия, внезапно ощущает желание оставить свой письменный стол и устоявшийся образ жизни и отправляется в путешествие. Дальнейшие события укладываются в несколько фраз. Поселившись в роскошном отеле в Венеции, А. Г. ф. поддается неудержимому чувственному влечению к прекрасному мальчику Тадзио. В городе вспыхивает эпидемия холеры, заразившийся А. Г. ф. умирает в своем шезлонге на берегу моря. На этой канве, вторым слоем поверх написанного, расставляя опознавательные знаки, Томас Манн ведет несколько важных для него мотивов, расширяющих и углубляющих содержание новеллы и смысл образа ее героя. Особую роль в новелле играют ситуации встречи — древняя коллизия романов-путешествий. Как будто бы и незначительные, эти встречи несут в себе тревожащее дополнительное значение. Начать с того, что желание к перемене мест возникает у А. Г. ф. на окраине города, у Северного кладбища, рядом с которым расположена каменотесная мастерская, изготовляющая кресты и надгробия, — как бы второе «ненаселенное» (пока!) кладбище. Так возникает в новелле первое предвестие смерти. Потом оно возвращается многократно и в обличье «скалившего зубы, горбатого, неопрятного матроса», и в облике курносого гондольера, поджимавшего, обнажая два ряда белых зубов, губы, и т. д. Нечто неживое, замершее есть и в самой Венеции, городе, стоящем у болотной лагуны, с какой-то особой тишиной, с каналами вместо улиц, встающем из воды, как мираж, если подплывать к нему с моря. Странная безжизненность соединяется в Венеции с ни с чем не сравнимой красотой. Амбивалентен и образ главного героя. Томас Манн бесстрашно бросил в тигель творчества многие сокровенные свойства своей натуры (вплоть до всю жизнь подавлявшейся склонности к однополой любви). Ему, а не только его герою была присуща, как следует из дневников и писем, усвоенная с ранних лет дисциплина, героический стоицизм, «некое вопреки». Красота в новелле по сути своей подозрительна. Она дана на пределе своих возможностей. «Как будто, — сказано тут однажды, — кто-то сыплет розами на краю света». Венеция с прихотливой ее красотой, с лабиринтами каналов и улиц — город, где в высшей степени напряжены отношения реальности и призрачности. Как сказочный мираж встает она из воды, как сказка, готова обернуться ужасом. Притворство, обманность, театр — другой мотив, вытканный по пространству новеллы. На борту доставившего его сюда суденышка А. Г. ф. видит «поддельного юношу» — приставшего к молодой компании старика с подгримированным лицом и крашеными волосами. Но и сам он в конце концов разрешает «омолодить» себя руками парикмахера. Однако главное превращение еще впереди. Венеция превращается в «заболевший город». Ее красота скрывает эпидемию, о которой молчат хозяева отелей, как молчит и сам герой, дабы не подвигнуть к бегству семью прекрасного Тадзио.
Написанная в 1911-м и изданная в 1912-м году новелла «Смерть в Венеции» создавалась Томасом Манном под влиянием двух реальных событий: смерти известного австрийского композитора и дирижёра – Густава Малера и общения в Венеции с одиннадцатилетним Владзьо Моэсом, ставшим прототипом Тадзио. Внешние черты музыканта писатель позаимствовал для формирования внешности главного героя произведения - писателя Густава Ашенбаха, свою поездку в Венецию – для сюжета новеллы, знаменитую историю любви престарелого Гёте к юной Ульрике фон Леветцов – для внутреннего накала страстей, ставших одной из главных тем «Смерти в Венеции».
Последняя любовь пятидесятилетнего писателя – платоническая и извращённая (направленная на польского подростка Тадзио, встреченного им на курорте Лидо) – неразрывно связана в новелле с темами искусства и смерти . Смерть не случайно выносится в заглавие произведения. Именно она становится определяющей для всего хода действия новеллы и жизни её главного героя – Густава фон Ашенбаха.
Признанный читателями, критиками и государством автор романа «Майя» и рассказа «Ничтожный» с раннего детства живёт с мыслями о смерти: болезненный по натуре герой учится дома и мечтает дотянуть до старости. Во взрослом возрасте Ашенбах строит свою жизнь здраво и размеренно: он закаляется, работает в утренние часы, когда чувствует себя наиболее свежим и отдохнувшим, старается не совершать необдуманных поступков. «Отшлифованное» , как и его литературный стиль, существование персонажа нарушается встречей со странного вида путником, обладающим нехарактерной для жителей Мюнхена внешностью – местами странной, местами устрашающей.
Мотив путешествия , вызванного внутренней тягой к странствиям, связывается в новелле с естественным переходом человека от жизни к смерти. Густав Ашенбах направляется навстречу своей гибели не потому, что так захотел автор, а потому, что пришло его время.
На пути к смерти герой постоянно сталкивается со странного вида людьми и ситуациями, являющимися символическими предзнаменованиями ухода писателя из земного мира. Видение тропических болот, посетившее Ашенбаха ещё в Мюнхене, становится прообразом источающей болезнетворные миазмы Венеции, вопреки обыкновению встречающей героя не чистым, ясным небом, а серой пеленой дождя. Один из молодых людей, путешествующих вместе с Ашенбахом на пароходе и оказавшийся «поддельным юношей» , является Alter ego персонажа, предрекающим его будущее: спустя время писатель, как и старик, будет стараться казаться моложе за счёт маскирующего морщины крема, краски для волос и цветных деталей в одежде. Нехарактерный для старого человека вид вызывает в герое «смутное чувство, что мир» выказывает «неостановимое намерение преобразиться в нелепицу, в карикатуру» .
Вслед за разрушением классической картины бытия Ашенбах сталкивается с ещё одним символическим образом смерти , воплощённом в неприятном вида гондольере, самовольно везущим писателя на Лидо. Гондольер в новелле – это Харон, помогающий своему «клиенту» перебраться через реку Стикс в подземное царство мёртвых. Главный герой на интуитивном уровне чувствует эту связь, думая о том, что имеет дело с преступником, который поставил своей целью убить и ограбить богатого путешественника, но мягкое покачивание волн (неумолимого рока) усыпляет его тревоги, и он приезжает на место своей гибели.
Захваченная азиатской холерой Венеция, жаркая и болезненная, приковывает к себе Ашенбаха извращённой страстью – к юному польскому аристократу, бледному и слабому, но настолько прекрасному со своими золотыми кудрями, что писатель видит в нём воплощённое божество. Поначалу главный герой ещё пытается сбежать из города, атмосфера которого плохо сказывается на его здоровье, но отправленный не туда багаж и желание постоянно видеть Тадзио, останавливает его и бросает в последнюю, неистовую пляску жизни.
Первое время Ашенбах всего лишь любуется Тадзио. Юный поляк вдохновляет писателя на небольшую, но изысканную литературную миниатюру. Тадзио становится для Ашенбаха символом искусства, жизни, красоты. Но чем больше герой думает о своём кумире, тем сильнее начинает желать его, тем больше привязывается к нему и уже не может не следовать за ним повсюду. На пороге агонии, когда Венеция погружается в хаос смертей, Ашенбах окончательно теряет свои моральные устои: он не стесняется того, что окружающие могут заметить его страсть, и мечтает о том, что вымерший от заразы город станет идеальным местом для его любовных утех с мальчиком.
Новелла заканчивается смертью главного героя и… жизнью, в которую, как в море, вступает польский подросток Тадзио. Чувственная красота последнего – это тоже смерть: творческое сознание Ашенбаха не в состоянии вынести того факта, что слово, которому он отдал всю свою жизнь, может лишь воспеть неизъяснимое очарование человека, но ни воссоздать его, ни обладать им по собственному желанию. Резкий контраст между Тадзио и Ашенбахом символизирует в новелле извечное противостояние между юностью и старостью, красотой внешней и внутренней, жизнью и смертью.
Институт Журналистики и Литературного Творчества
Реферат
По предмету: «Зарубежная литература ХХ века»
Тема: «Смерть в Венеции» Томас Манн
Выполнил: Ермаков А.А.
Проверил: Жаринов Е.В.
г.Москва. 2014
2. Понятие «Интеллектуальный роман» …………………………………………….. 4
3. История создания новеллы «Смерть в Венеции» …………………………………5
4. Композиция и сюжет произведения ………………………………………………6
5. Образы героев ……………………………………………………………………….7
6. Внутренний конфликт главного героя …………………………………………….8
7. Список литературы ………..……………………………………………………… 12
Пауль Томас Манн родился 6 июня 1875 года в Любеке. Он был вторым ребенком в семье Томаса Йохана Генриха Манна – местного торговца зерном и владельца судоходной компании со старинными ганзейскими традициями. Его мать, происходившая из креольской, бразильско португальской семьи, была музыкально одаренным человеком. Она сыграла большую роль в воспитании Томаса и остальных четырех детей.
Еще учась в гимназии, Томас стал создателем и автором литературно художественного и философского журнала «Весенняя гроза».
В 1891 году умер отец. Еще через два года семья продала фирму и покинула Любек. Вместе с матерью и сестрами Томас переехал в Мюнхен, где стал работать клерком в страховом агентстве. В 1895–1896 годах он учился в Высшей технической школе.
В 1896 году он отправился вместе со своим старшим братом Генрихом, пробовавшим тогда свои силы в живописи, в Италию. Там Томас начал писать рассказы, которые отправлял немецким издателям. Среди них был и С. Фишер, предложивший объединить эти рассказы в небольшой сборник. Благодаря Фишеру в 1898 году вышел в свет первый сборник рассказов Томаса «Маленький господин Фридеманн».
Вернувшись в Мюнхен в том же году, Томас работал редактором юмористического журнала «Симплициссимус». Здесь он сблизился с кружком немецкого поэта Ш. Георге. Но довольно скоро он понял, что с членами кружка, которые провозгласили себя наследниками немецкой культуры и исповедовали идеи декаданса, ему не по пути.
В 1899 году Манна призвали на годичную военную службу. А в 1901 году в издательстве С. Фишера вышел его роман «Будденброки», принадлежащий к жанру «семейного романа». Он принес Манну всемирную славу и Нобелевскую премию, но, главное, любовь и признательность миллионов людей.
Понятие «Интеллектуальный роман»
Термин «интеллектуальный роман» был впервые предложен Томасом Манном. В 1924 г., в год выхода в свет романа «Волшебная гора», писатель заметил в статье «Об учении Шпенглера», что «исторический и мировой перелом» 1914-1923 гг. с необычайной силой обострил в сознании современников потребность постижения эпохи, и это определенным образом преломилось в художественном творчестве. «Процесс этот, - писал Т. Манн, - стирает границы между наукой и искусством, вливает живую, пульсирующую кровь в отвлеченную мысль, одухотворяет пластический образ и создает тот тип книги, который… может быть назван «интеллектуальным романом». К «интеллектуальным романам» Т. Манн относил и работы Фр. Ницше. Именно «интеллектуальный роман» стал жанром, впервые реализовавшим одну из характерных новых особенностей реализма XX в.- обостренную потребность в интерпретации жизни, ее осмыслении, истолковании, превышавшую потребность в «рассказывании», воплощении жизни в художественных образах. В мировой литературе он представлен не только немцами - Т. Манном, Г. Гессе, А. Дёблином, но и австрийцами Р. Музилем и Г. Брохом, русским М. Булгаковым, чехом К. Чапеком, американцами У. Фолкнером и Т. Вулфом, и многими другими. Но у истоков его стоял Т. Манн.
Характерным явлением времени стала модификация исторического романа: прошлое становилось удобным плацдармом для прояснения социальных и политических пружин современности (Фейхтвангер). Настоящее пронизывалось светом другой действительности, не похожей и все же в чем-то похожей на первую.
Многослойность, многосоставность, присутствие в едином художественном целом далеко отстоящих друг от друга пластов действительности стало одним из самых распространенных принципов в построении романов XX в.
Романы Т. Манна интеллектуальны не только потому, что здесь много рассуждают и философствуют. Они «философичны» по самому своему построению - по обязательному наличию в них разных «этажей» бытия, постоянно соотносимых друг с другом, друг другом оцениваемых и измеряемых. Труд сопряжения этих слоев в единое целое составляет художественное напряжение этих романов. Исследователи неоднократно писали об особой трактовке времени в романе ХХ в. Особое видели в вольных разрывах действия, в перемещениях в прошлое и будущее, в произвольном замедлении или убыстрении повествования в соответствии с субъективным ощущение героя.
История создания новеллы «Смерть в Венеции»
Когда Томас манн начал писать свою самую знаменую повесть «Смерть в Венеции» у него были проблемы со здоровьем и творческий рост замедлился.
Он был убежден что он должен отличится новым произведением, которое станет привлекательным для тогдашних вкусов. В 1911 отдыхая с женой в Венеции 35 летний писатель был очарован красотой одного польского мальчика барона Владислава Моеса. Манн ни разу не заговорил с мальчиком, но описал его под именем Таджио в повести «Смерть в Венеции». Писатель уже замышлял рассказ о неприличном любовном похождении пожилого писателя, намереваясь в качестве темы использовать имевшую место в реальной жизни увлеченность 80-ти летнего Гёте подростком. Но собственные яркие переживания в пору пребывания на отдыхе на Бриони и в Венеции в Мае и Июне 1911 г. направили его мысли в другое русло и приозвели шедевр. До боли автобиографическая «Смерть в Венеции» с собственными размышлениями Манна о жизни творческих личностей.
Когда десять лет спустя барон Моес, в отрочестве ставший прообразом мальчика, прочитал повесть, он удивился, как точно автор новеллы описал его летний полотняный костюм. Пан Владислав хорошо запомнил "старого господина", который смотрел на него, куда бы он ни пошел, а также его напряженный взгляд, когда они поднимались в лифте: мальчик даже сказал своей гувернантке, что он нравится этому господину.
Данная повесть была написана между июлем 1911 и июлем 1912 гг., и была впервые опубликована в двух выпусках берлинского журнала "Новое обозрение" (Die Neue Rundschau), печатного органа С. Фишера (издателя Манна): за октябрь и ноябрь 1912 . Позднее в 1912 году она была напечатана небольшим тиражом в дорогом оформлении издательством Hans von Weber’s Hyperionverlag в Мюнхене. Ее первая широко продаваемая публикация в книжном формате была сделана тем же С. Фишером в Берлине в 1913 году.
Композиция и сюжет произведения
Новелла «Смерть в Венеции» начинается с того что Густав Ашенбах вышел из своей мюнхенской квартиры в теплый весенний вечер и в одиночестве отправился на дальнюю прогулку после чая, он отправился погулять, в надежде, что воздух и движение его приободрят. Ашенбах встретил незнакомца который явно ему не понравился и он почувствовал через некоторое время усталость и жажду перемен, чувство столь живое и позабытое и он в раздумьях уставился вниз разобраться что с ним произошло. Он хотел путешествовать и он решил ехать куда-нибудь недалеко от своего дома. Он выбирает Италию. Герой не случайно выбирает Венецию так как он уже чувствовал окончание своей жизни и хочет еще раз взглянуть на красоту мира который воплощается для него на берегу Адриатического моря. где еще летает забытый, но живой дух древнегреческого наследия.
Он взял билет в первом классе на пароход и поплыл в Венецию. На корабле он встретил омерзительного старика который все время смеялся и этот старик хмелел от небольшого количества спиртного. Ашенбаху было омерзительно смотреть на его такое панибратство с молодежью.
Приехав в Венецию он останавливается в одном из самых роскошных отелей Венеции на берегу моря, через некоторое время он встречает очень красивого польського мальчика барона который приехал со своей семьей в Венецию. Ашенбах наблюдал за мальчиком несколько дней и пытался бежать от своих чувств и своих желаний. Каждый день он искал мальчика взглядом и хотел находится недалеко от него, однажды он даже следил за ним и пытался уехать из Венеции, но у него не получилось так как его багаж был утерян и после он передумал уезжать. Он вернулся в Отель с которым уже попрощался и вновь увидел предмет свого вожделения – молодого Тадзио. Тот играл со своим новым другом на пляже и начал было драться с ним.
Но Ашенбах мысленно переживал за Тадзио т.к. он был влюблен в него. И не хотел оставлять одного. Вскоре он узнал что именно за болезнь появилась в Венеции и многе туристы стали покидать город, но Ашенбаху было все равно он только хотел бать рядом с Тадзио.
В конце концов профессор признает свою любовь к Тадзио и тут же желает очистить своего юного Диониса… и созерцает Тадзио уже в храме, среди свечей и за молитвою. Одновременно эта сцена символизирует принятие Таджио, как своего бога – отныне Густав причащается к Тадзио и идет по пятам за своим богом, как метафорически. Густав идет ведомый юношей по темным лабиринтам старых кварталов Венеции. Он движется сквозь темные проходы к завершению мистерии, которой должно закончиться познание дионисийского начала. Тут же профессор становится свидетелем дезинфекции на улицах Венеции – его начинает преследовать мерзкий запах. Все это – борьба духа со своей естественностью; сравнение смертельной эпидемии в городе с разрушительной тягой к Тадзио.
Через несколько дней Ашенбах чувствовал себя нездоровым и спустился позже обычного он пытался побороть приступы дурноты в физическом плане. Он увидел багаж аристократической польской семьи, которая собралась отъезжать из отеля.
Тадзио вместе с его друзьями гуляли на пляже и Ашенбах прилег на шезлонг укрывшись одеялом, он лежа наблюдал за Таджио и никто не заметил, что его тело соскользнуло набок в своем кресле. Спустя несколько минут подбежали люди на помощь Ашенбаха. Его отнесли в комнату, в которой он проживал и в тот же день мир узнал о его смерти.
Образы героев
В центре художественного произведения – писатель Ашенбах. В его образе автор видит отчасти себя самого и, конечно же, других людей. Автор показывает нам беспомощность Густава перед Миром, перед его красотой и жизнью. Автор подчеркивает такие черты как талант Густава, он не знал отдыха и не позволял себе жить по-другому. Он был прирожденным трудоголиком. Он очень хотел дожить до старости и часто сидел над своими произведениями до поздней ночи. Внутри произведения его характеризуют так: "Ашенбах смолоду жил вот так, - он сжал левую руку в кулак, - и никогда не позволял себе жить этак". Жизнь под символом сжатого кулака.
В произведении нет очень очевидных образов. Все они словно вторичны. На первом месте Тадзио – подросток в которого влюбился Густав. Таким его описал автор: «Походка его - то, как он держал корпус, как двигались его колени, как ступали обутые в белое ноги, - была неизъяснимо обаятельна, легкая, робкая и в то же время горделивая, еще более прелестная от того ребяческого смущения, с которым он дважды поднял и опустил веки, вполоборота оглядываясь на незнакомых людей за столиками. Улыбаясь и что-то говоря на своем мягком, расплывающемся языке, он опустился на стул, и Ашенбах, увидев его четкий профиль, вновь изумился и даже испугался богоподобной красоты этого отрока.»
Сила новеллы заключается не в героях произведения, а в характере героя и его тяготе к божественной красоте, которую он увидел в Тадзио, чувстве к прекрасному.
Внутренний конфликт главного героя
«Смерть в Венеции» непревзойденный образец реалистической манеры письма, обогащенной модернизмом. Именно она помогла художнику художественно постичь и воплотить проблему бездуховности тогдашнего искусства. В 1913 году, когда Томас Манн работал над этим небольшим произведением, в Западной Европе получили распространение пессимистические философские теории, которые основывались на иррационализме, мистике, волюнтаризме. Считалось, что земная цивилизация вступила в свою «сумеречную эпоху», что ее ждет всемирный хаос, что человеческая жизнь ничего не стоит, она подчинена слепым проявлениям какой-то свободы, полна страданий и мук. Под влиянием общего кризиса в обществе и этих теорий искусство разрывало связи с классической традицией, теряло свое гражданское звучание, становилось равнодушным к человеку. На рубеже веков великий немецкий писатель, чувствуя упадок искусства, как истинный гуманист предостерегает человечество беречь свою духовность, не поклоняться фальшивым богам.
Герой произведения, известный немецкий писатель Густав фон Ашенбах, уставший от изнурительной работы, внутренних противоречий, однообразием будней, решил «пуститься в странствия», «увидеть далекие края». Может, где-то там останется усталость, внутренний кризис? После лихорадочных размышлений в его воображении, наконец, определилась цель путешествия. «Если за одну ночь хочешь достичь несравненного, сказочно небывалого, куда направиться? Но тут есть не над чем долго думать».
Венеция! Колыбель культуры, где зарождалось современное искусство. Венеция вдохновляла художников всего мира на создание лучших их произведений. В Венецию в поисках внутреннего согласия, нового вдохновения отправляется герой Томаса Манна. Встречи с Венецией предшествует встреча с компанией приказчиков. На мрачном, невероятно грязном допотопном пароходе среди веселого общества молодых его внимание привлекает фигура «поддельного юноши». Крашеный старик в парике и чрезмерно модном костюме издалека бросается в глаза крикливым красным галстуком и по-молодому загнутой соломенной шляпой с пестрой лентой. Вблизи видно, что красота и молодость его – умелая косметика на испаханном возрастом и страстями лице. Этот типичный, модерно подмоложенный образ порока вызывает отвращение у Ашенбаха, но по иронии судьбы через две недели он сам появляется в удивительно похожем красном галстуке, в такой же шляпе, таким же внутренне возбужденным.
И вот наконец Венеция – город сказок и надежд! Ашенбах восхищен, хотя попал в нее вторично. Вид Венеции с открытого моря еще более впечатляющий, чем с суши. Изысканное общество, вежливая администрация, а «на улицах многие узнают его и благоговейно разглядывают». И все же внутреннее беспокойство, нервное напряжение не оставляют поэта. И Ашенбах решает сбежать из Венеции. Но он узнает новое чувство, познает наслаждение от него. Уже ничто не раздражает писателя, наоборот, ему нравится все, что его окружает.
Ашенбах влюбился в 14-летнего красавца – поляка Тадея. Это не физическая страсть, а увлечение удивительным совершенством красоты подростка. Встретившись с красотой, писатель с головой окунулся в ее сказочный, волшебный мир. Он ею живет, ею дышит, не может представить себя без нее. И одежда Тадея и манеры, и осанка – все поражало писателя. Особенно «чудесный цветок – голова несравненной красоты, голова Эрота в желтоватом паросском мраморе, с тонкими суровыми бровями, с темно-золотыми кудрями, мягко спадали на виски и на уши». «Как красив», – подумал Ашенбах с тем профессионально холодным одобрением, в которое только время одевает свою взволнованность, свой восторг, когда смотрит на шедевр». Вот этот Тадей стал смыслом жизни Ашенбаха. Он любовался, мысленно разговаривал с ним, неотступно следил за его детскими играми. И это доводило его до опьянения. «Одурманенный от своего чувства, забыв обо всем на свете, Ашенбах хотел только одного: ходить следом за тем, кто зажег его кровь, мечтать о нем, когда его не было поблизости, и, по обыкновению всех влюбленных, нашептывать нежные слова его тени».
Густав сначала воспринимает парня за статую, которая ожила, но наблюдательный глаз писателя замечает зубы, «как в малокровной», и невольная радость закрадывается в душу героя – красота тоже не идеальна, не вечна, смертна.
Казалось бы, любовь, восхищение вызывает в человеке желание проявить свои лучшие качества. А вот Ашенбах изменил своей любви, показал свою бездуховность и эгоизм.
Бездуховность Ашенбаха свидетельствует о самой страсти к Тадею. Она ограничивает его духовные горизонты, препятствует нормальному общению с людьми. Ашенбах охладевает ко всему окружающему «Одурманенный», «одинокий», «живет словно за глухой стеной» – так характеризует автор новеллы своего героя. Ашенбах деградирует и как личность, и как художник.
«Со временем в произведениях Густава Ашенбаха нечто официозно-воспитательное, в его стиле поздних лет не было уже ни молодой отваги, ни тонкой игры светотеней, он сделался образцово-непререкаемым, отшлифованно-традиционным, неизменным, формальным, даже шаблонным». Густав Ашенбах на старости изгнал из своей речи все пошлые слова. И вот тогда ведомство народного просвещения включило избранные страницы из него в школьные хрестоматии. Выслеживая Тадея, он испытывает унижение, теряет человеческое достоинство. Вот он, возвращаясь поздно вечером из Венеции, «остановился на втором этаже, возле комнаты, где жил Тадей, в блаженстве прислонился лбом к завесам на дверях и долго не мог оторваться от него, забыв, что его могут увидеть.
Узнав об эпидемии холеры, которая надвигается на город, он сначала хотел предупредить семью Тадея, а потом передумал, решил этого не делать, ведь он никогда больше не увидит своего демона. Эгоистический расчет возобладал. Густав скорее готов отдать парня холере, чем расстаться с ним. И все же семья Тадея собирается уезжать. А сам писатель заболел и через несколько дней скончался в пляжном кресле.
Смерть эта символическая. Ашенбах предал то, чем искренне восхищался, на кого молился и во что верил. Измена же, подлость не бывают безнаказанными. Томас Манн на протяжении всего произведения отмечает, что бездуховное искусство, которое потеряло интерес к нетленным общечеловеческим ценностям, свело к идеалу форму, не имеет будущего, оно обречено. Обречено и человечество, которое имеет такое искусство. Только то искусство, которое воспевает высокие идеалы любви, добра, справедливости, взаимопомощи имеет право на жизнь. Именно оно дает художнику настоящее удовольствие от своей работы. Такое искусство объединяет людей, помогает преодолевать жизненные препятствия. Поэтому и отстаивает его великий гуманист нашего века – Томас Манн.
Список литературы
1. «Новеллы». Т. Манн. Серия «Классики и современники», М: 1974.
2. «Томас Манн». Соломон Апт. Серия «ЖЗЛ» Молодая гвардия 1972.
3. «Страдая Германией». Л.Беренсон. «Еврейская газета» Январь 2006 – 1 (41).