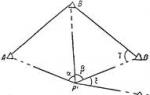За рубежом. М.Е. Салтыков-Щедрин. «За рубежом
Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех – это заставить человека посвятить себя культу самосохранения. Решившись на такой подвиг, надлежит победить в себе всякое буйство духа и признать свою жизнь низведенною на степень бесцельного мелькания на все то время, покуда будет длиться искус животолюбия.
Но, во-первых, чтоб выполнить такую задачу вполне добросовестно, необходимо, прежде всего, быть свободным от каких бы то ни было обязательств. И не только от таких, которые обусловливаются апелляционными и кассационными сроками, но и от других, более деликатного свойства. Или, говоря короче, нужно сознать себя и безответственным, и вдобавок совсем праздным человеком. Ибо, во время процесса самосохранения, всякая забота, всякое напоминовение о покинутом деле и даже «мышление» вообще – считаются не kurgemaess и препятствуют солям и щелочам успешно всасываться в кровь.
Среди женщин субъекты, способные всецело отдаваться праздности, встречаются довольно часто (культурно-интернациональные дамочки, кокотки, бонапартистки и проч.). Всякая дамочка самим богом как бы целиком предназначена для забот о самосохранении. В прошлом у нее – декольте, в будущем – тоже декольте. Ни о каких обязательствах не может быть тут речи, кроме обязательства содержать в чистоте бюст и шею. Поэтому всякая дамочка не только с готовностью, но и с наслаждением устремляется к курортам, зная, что тут дело совсем не в том, в каком положении находятся легкие или почки, а в том, чтоб иметь законный повод но пяти раз в день одеваться и раздеваться. Самая плохая дамочка, если бог наградил ее хоть какою-нибудь частью тела, на которой без ожесточения может остановиться взор мужчины, – и та заранее разочтет, какое положение ей следует принять во время питья Kraenchen, чтоб именно эту часть тела отрекомендовать в наиболее выгодном свете. Я знаю даже старушек, у которых, подобно старым, ассигнациям, оба нумера давно потеряны, да и портрет поврежден, но которые тем не менее подчиняли себя всем огорчениям курсового лечения, потому что нигде, кроме курортов, нельзя встретить такую массу мужских панталон и, стало быть, нигде нельзя так целесообразно освежить потухающее воображение. Словом сказать, «дамочки» – статья особая, которую вообще ни здесь, ни в другом каком человеческом деле в расчет принимать не надлежит.
Но в среде мужчин подобные оглашенные личности встречаются лишь как исключение. У всякого мужчины (ежели он, впрочем, не бонапартист и не отставной русский сановник, мечтающий, в виду Юнгфрау 1 (Комментарии к таким сноскам смотри в Примечаниях I), о коловратностях мира подачек) есть родина, и в этой родине есть какой-нибудь кровный интерес, в соприкосновении с которым он чувствует себя семьянином, гражданином, человеком. Развязаться с этим чувством, даже временно, ужасно тяжело; и я положительно убежден, что самый культ самосохранения должен от этого пострадать. Легко сказать: позабудь, что в Петербурге существует цензурное ведомство, и затем возьми одр твой и гряди; но выполнить этот совет на практике, право, не легко.
Недавно, проезжая через Берлин, я заехал в зоологический сад и посетил заключенного там чимпандзе. При случае советую и вам, читатель, последовать моему примеру. Вы увидите бедное дрожащее существо, до того угнетенное тоской по родине, что даже предлагаемое в изобилии молоко не утешает его. Скорчившись, сидит злосчастный пленник под теплым одеялом на соломенном одре и, закрывши глаза, дремлет предсмертного дремотой.
Какие сны снятся старику – этого, конечно, нельзя угадать, но, судя по тоскливым вздохам, ясно, что перед умственным его взором мелькает нечто необыкновенно заманчивое и дорогое. Быть может, там, в родных лесах, он был исправником, а может быть, даже министром. В первом случае он предупреждал и пресекал; во втором – принимал в назначенные часы доклады о предупреждении и пресечении. Без сомнения, это были доклады не особенно мудрые, но ведь для чимпандзе, по части мудрости, не особенно много и требуется. И вот, теперь он умирает, не понимая, зачем понадобилось оторвать его от дорогих сердцу интересов родины и посадить за решеткой в берлинском зоологическом саду. Умирает в горьком сознании, что ему не позволили даже подать прошения об отставке (просто поймали, посадили в клетку и увезли), и вследствие этого там, на родине, за ним числится тридцать тысяч неисполненных начальственных предписаний и девяносто тысяч (по числу населяющих его округ чимпандзе) непроизведенных обысков! Не знаю, как подействует это скорбное зрелище на вас, читатель, но на меня оно произвело поистине удручающее впечатление.
Во-вторых, мне кажется, что люди науки, осуждающие своих клиентов выдерживать курсы лечения, упускают из вида, что эти курсы влекут за собой обязательное цыганское житье, среди беспорядка, в тесноте, вне возможности отыскать хоть минуту укромного и самостоятельного существования. Из привычной атмосферы, в которой вы так или иначе обдержались, вас насильственно переносят в атмосферу чуждую, насыщенную иными нравами, иными привычками, иным говором и даже иным разумом. Перед глазами у вас снует взад и вперед пестрая толпа; в ушах гудит разноязычный говор, и все это сопровождается таким однообразием форм (вечный праздник со стороны наезжих, и вечная лакейская беготня – со стороны туземцев), что под конец утрачивается даже ясное сознание времен дня. Это однообразие маятного движения досаждает, волнует, вызывает ежеминутный ропот. Нет ничего изнурительнее, как не понимать и не быть понимаемым. Я говорю это не в смысле разности в языке – для культурного человека это неудобство легко устранимое, – но трудно, почти невыносимо в молчании снедать боль сердца, ту щемящую боль, которая зародилась где-нибудь на берегах Иловли 2 и по пятам пришла за вами к самой подошве Мальберга. Там, в долине Иловли, эта боль напоминала вам о живучести в вас человеческого естества; здесь, в долине Лана, она ровно ни о чем не напоминает, ибо ее давно уже пережили (может быть, за несколько поколений назад), да и на бобах развели. Мало того, эта боль становится признаком неблаговоспитанности с вашей стороны, потому что неприлично вздыхать и роптать среди людей, которым, в качестве восстановляющего средства, прописано непременное душевное спокойствие. Не ясно ли, что те катаральные улучшения, которые достигаются глотанием и вдыханием подлежащих щелочей, должны в значительной мере ослабляться полным отсутствием условий, составляющих обычную принадлежность той жизни, с которою вы, по крайней мере, лично привыкли соединять представление об оседлости.
В-третьих, наконец, культ самосохранения заключает в себе нечто, свидетельствующее не только о чрезмерном, но, быть может, и о незаслуженном животолюбии. Русская пословица гласит так: «жить живи, однако и честь знай». И заметьте, что, как все народные пословицы, она имеет в виду не празднолюбца, а человека, до истощения сил тянувшего выпавшее на его долю жизненное тягло. Если даже ему, истомленному человеку тягла, надо «честь знать», то что же сказать о празднолюбце, о бонапартисте, у которого ни назади, ни впереди нет ничего, кроме умственного и нравственного декольте? Клянусь, надо знать честь, господа! Подумайте! миллионы людей изнемогают, прикованные к земле и к труду, не справляясь ни о почках, ни о легких и зная только одно: что они повинны работе, – и вдруг из этого беспредельного кабального моря выделяется горсть празднолюбцев, которые самовластно декретируют, что для кого-то и для чего-то нужно, чтоб почки действовали у них в исправности! Ах, господа, господа!
Все это я отлично понимал, и все эти возражения были у меня на языке прошлой весной, когда решался вопрос о доставлении мне возможности прожить «аридовы веки». Но – странное дело! – когда люди науки высказались в том смысле, что я месяца на три обязываюсь позабыть прошлое, настоящее и будущее, для того чтоб всецело посвятить себя нагуливанию животов, то я не только ничего не возразил, но сделал вид, что много доволен. Я знал, что, ради восстановления сил, я должен буду растратить свои последние силы, – и промолчал. Я очень хорошо провидел, что процесс самосохранения окончательно разорит мой и без того разоренный организм, – и сказал: помилуйте! куда угодно, хоть в тартарары! Я – человек дисциплины по преимуществу и твердо верую, что всякое «распоряжение» клонится к моему благу.
С точки зрения жанра: часть исследователей считает это произведение циклом очерков или сатирической хроникой (К.Соколова, Я. Билинкис). Однако здесь все же больше единства, свойственного для жанра романа, но которое проявляется в специфике путевых очерков и заметок. Кроме того, присутствует образ рассказчика-путешественника. Об особой роли этого произведения в творчестве Салтыкова-Щедрина пишет исследователь Макашин.
«За рубежом» - одна из великих русских книг о Западе, потому что она стоит в одном ряду с «Письмами русского путешественника» Карамзина, с «Зимними заметками о летних впечатлениях» Достоевского, «Больной совестью» Успенского; предшествует «Прекрасной Франции» Горького и «Скифам» Блока. Написание произведения связано с поездкой Щедрина за границу -в Германию, Францию, Швейцарию, Бельгию (проездом). Он внимательно наблюдает за жизнью Западной Европы, и эти наблюдения вылились в публицистические и философские размышления о России и Европе, о судьбах народа, человечества, цивилизации. В центре - образ буржуазной Европы, и поначалу нам кажется, что Европа хороша (живописные поля, красивые жилища немцев, сравниваемые с русскими домами с клокоченной соломенной крышей), описание полей, где у немцев богатейший урожай. Щедрин делает сравнение на примере чембарских черноземов, где глубина почв достигает двух аршин. Но с этими слоями обращались так, что они выдохлись и давали жидкий урожай. В Кенигсберге - болотистые места, но «буйные хлеба». Наши помирать готовы, если дождичка нет, а те помирать не хотят. В Европе главенствует безыдейная сытость, стремление к обогащению. «Все чисто, даже плюнуть некуда» - так охаратеризовал их Щедрин.
Приводятся мысли писателя о том, что ожидает Россию: здесь он полемизирует и с народниками, уповавшими на крестьянскую общину, и со славянофилами, и с западниками. Эта полемика - основная особенность поэтики произведения.
В повествовании используется прием двуплановости: Европа и Россия, и именно сквозь призму западных порядков звучит голос о России. Для Щедрина оба плана, Европа и Россия, сродни однородным предметам, ведь нигде нет прогресса, потому что в России колупаевы и разуваевы, у немцев - господин Гехт («щука»). Эта мысль прослеживается во всех частях произведения. В романе часто встречается включение драматических картин и сцен, и одна из них - мальчик в штанах и мальчик без штанов. Это диалог немецкого Бауэра в штанах с русскими постреленком без штанов. Картина в форме сна рассказчика, но содержание этих картин реально, несмотря на фантастичность ситуации. Мальчики не могут понять друг друга из-за разности менталитетов: русский удивляется чистоте и обилию еды, немецкий утверждает, что русские продали душу колупаевым и разуваевым. На это наш отвечает: что вы Гехту за грош продали, мы можем назад вернуть, «будет и на нашей улице праздник, с колупаевым мы сочтемся». Все картины, и в особенности размышления рассказчика, строятся на основе, характерной для любого риторического упражнения: тезис - антитезис - вывод.
«Притча о торжествующей свинье»: вставной эпизод в форме сна рассказчика. Торжествующая свинья готова чавкать правду, которая изображается едва покрытыми лохмотьями. Реакция людей - они могут подтвердить слова свиньи, но для свиньи нет правды о законах, вообще нет особенной правды, животное может корчиться от боли.
В романе видим описания буржуазной Европы, которая нам сначала представляется сытой, наиболее благополучной, с наливающимися невероятным урожаем полями, аккуратными домами немцев, сравнение с российскими домами с соломенными крышами, жидкими полями хлебов, отсталостью и бедностью. Богатые российские земли со слоем чернозема уже выдохлись, а в Кенигсберге, стоящем на болоте, хлеба вырастают буйные. Наши крестьяне при долгом отсутствии дождя готовы умереть с голоду, а немцы не хотят помирать, так как насыщены неимоверным рвением
К сытости и обогащению. На улицах западных городов чистота и “даже плюнуть некуда, все чисто”, как описывает автор.
В строках произведения приводится частая полемика с народниками, славянофилами и западниками. Постоянны сравнения Европы с Россией, но нет нигде прогресса, так как в России одни колупаевы иразуваевы, а у них – господин Грехт – прожорливая щука. Описывается диалог двух мальчиков: один в штанах, немецкий Бауэр и без штанов – русский пацаненок. Они никак не могут понять друг друга и переспорить, так как мышление у них совершенно разное. Русский поражается их чистоте и излбилиюеды, а немец
Твердит о том, что русские давно куплены разуваево-колупаевами. Наш твердит, что то, что они Грехту за грош продали, “мы можем вернуть, устроив и на нашей улице праздник, и с колупаевым сочтемся”.
Приводится притча о свинье: торжествующая свинья готова чавкать правду. Люди могут подтвердить слова свиньи, для которой вовсе нет правды о законах. Спор свиньи с правдой.
Россия автором сравнивается с могучей грудью, о которую неоднократно разбивались мощные удары всей истории. Перенесла она и разрезание на удельные княжества, нашествие и татарское иго, введение московской государственности и законов, закрепощение народа. Она многое вынесла, но так и не сформировала собственный образ общежития. В этом вековая отсталость от стран Старого Света. Причем отмечается, что ни один из этих образов общежития не устроил интересы большинства трудового народа.
- За Рубежом Салтыков Щедрин Краткое Со
(Пока оценок нет)
Другие сочинения:
- Именно “многообразием тематики” замечательно произведение Салтыкова-Щедрина “За рубежом”. Множество стран, города и веси, калейдоскоп лиц, образов, ослепительные выводы, сравнения и обобщения. Чего стоит лишь символ “мальчика в штанах и без штанов”, переданный в форме блестящего диалога! Появление очерков “За рубежом” Read More ......
- Новыми и значительными достижениями обогатилась в “За рубежом” салтыковская сатирическая галерея вершителей и проводников внутренней политики Российской империи. Прежде всего это “портреты” двух “бесшабашных советников” Удава и Дыбы. (Нужно было очень ненавидеть царское самодержавие и его слуг, чтобы найти для Read More ......
- История одного города Данная повесть – “подлинная” летопись города Глупова, “Глуповский Летописец”, обнимающая период времени с 1731 по 1825 г., которую “преемственно слагали” четыре глуповских архивариуса. В главе “От издателя” автор особенно настаивает на подлинности “Летописца” и предлагает читателю “уловить Read More ......
- Премудрый пескарь Жил-был “просвещенный, умеренно либеральный” пескарь. Умные родители, умирая, завещали ему жить, глядя в оба. Пескарь понял, что ему отовсюду грозит беда: от больших рыб, от соседей-пескарей, от человека (его собственный отец однажды едва не был сварен в ухе). Read More ......
- Пошехонская старина Предваряя рассказ о своем прошлом, Никанор Затрапезный, наследник старинного пошехонского дворянского рода, уведомляет, что в настоящем труде читатель не найдет сплошного изложения всех событий его жития, а только ряд эпизодов, имеющих между собой связь, но в то же Read More ......
- Медведь на воеводстве Послал Лев – царь зверей первого Топтыгина воеводой в дальний лес, наградив майорским чином. Топтыгин этот о большом кровопролитии мечтал, и планировал на новом месте что-то подобное совершить. Всполошились лесные жители, когда узнали, что им предстоит. Прежде Read More ......
- Благонамеренные речи В главе-предисловии “К читателю” автор представляется как фрондер, жмущий руки представителям всех партий и лагерей. Знакомых у него тьма-тьмущая, но у них он ничего не ищет, кроме “благих намерений”, хорошо бы в них разобраться. Пусть они ненавидят друг Read More ......
- Дикий помещик Жил-был глупый и богатый помещик, князь Урус-Кучум-Кильдибаев. Любил он раскладывать гранпасьянс и читать газету “Весть”. Взмолился однажды помещик богу, чтобы тот избавил его от мужиков – уж больно их дух ему мешал. Бог знал, что помещик глуп, и Read More ......
Очерки «За рубежом» - путевые очерки или дневник путешествий. Маршрут поездки в точности отражен в последовательности очерков-глав книги (Салтыков называл их «статьями», «эскизами» и «этюдами»): Германия - Швейцария - Франция - Бельгия (проездом). Это весьма объемное произведение без определенной фабулы и сюжета. Отдельные части: блестяще законченные сценки из жизни (отдельные очерки), авторские рассуждения по поводу увиденного в заграничном путешествии и аналитические размышления. В литературном наследии Салтыкова «За рубежом» занимает особое место. Это единственное его крупное произведение, в котором дана широкая разработка иностранного материала, нарисована цельная, глубоко критическая картина политической жизни, нравов, культуры современной писателю Западной Европы. «За рубежом» - одна из великих русских книг о Западе. Писатель национальный в самом истинном смысле этого понятия, Салтыков и к оценкам иноземной действительности подходил всегда с русской точки зрения.
Первая странаГермания с нее начинается сатирико-публицситическое «обозрение» европейской жизни в «За рубежом». В немецком этюде:
· Франко-прусская война (критика военщины)
· Быт модных курортов (Баден-Баден, Эмс) – сатира на «русских культурных людей за границей». Люди эти представлены здесь в окружении всеевропейской толпы «праздношатающихся» европейцев.
Картина Германии, собственно Берлина, превращенного из административного центра Прусского королевства в имперскую столицу, написана мрачными красками. «Уже подъезжая к Берлину, - начинает Салтыков свой рассказ, - иностранец чувстзует, что на него пахнуло скукой, офицерским самодовольством и коллекцией неопрятных подолов из Орфе-ума».
«Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубийства» - так просто формулирует Салтыков ответ на вопрос «Для чего собственно нужен Берлин?». При это он все же сохраняет веру в его будущее. «Никаких данных утверждать, что Берлин никогда не сделается действительным руководителем германской умственной жизни».
Два «бесшабашных советника» Удав и Дыбы – говорящие фамилии.
Подхалимов – журналист, «газетчик». Первый раз в литературе так полно и сатирические сильно предстали перед читателем в образе репортера. Отрицательные черты одной из профессий новой буржуазной интеллигенции.
В очерках показаны не отдельные лица, а целые категории и сословия. За рубежом нет положительных героев.
Разговор мальчика в штанах и мальчика без штанов: Немецкий «мальчик в штанах» и русский «мальчик без штанов» ведут между собой совсем не детский разговор. В нем обсуждаются вопросы, относящиеся к философии истории - о социально-экономическом развитии Запада и России и об их будущих судьбах. Образ «мальчика в штанах» олицетворяет положение людей труда, народа, в первую очередь крестьянства в мире развитого западноевропейского капитализма, представленного фигурой «господина Гехта». Образ «мальчика без штанов» - русское крестьянство, существующее в условиях социально-экономической и гражданско-правовой отсталости и всех видов бедности, в условиях «недостаточного развития капитализма» (Ленин). Российский капитализм представлен фигурой одного из салтыковских «чумазых» - «господином Колупаевым». Русский мальчик, симпатии и любовь к которому автора видны и сквозь покров сатиры, обличает немецкого в том, что он «за грош черту душу продал», что родители его заключили с «господином Гехтом» «контракт». Немецкий мальчик, в свою очередь, полагает, что русский мальчик поступил гораздо неразумнее, так как отдал Колупаеву свою «душу» «совсем задаром». Но «мальчик без штанов» в этом-то и видит свое большое, преимущество: «Задаром-то я отдал - стало быть, и опять могу назад взять...» - заключает он разговор с «мальчиком в штанах», несколько загадочно, но оптимистически заверяя своего собеседника в другом месте: «Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник!». «Как хотите, а это очень и очень интересная разница!» - заключает Салтыков. И она действительно «очень интересна» и важна. Салтыков устанавливает здесь чрезвычайно существенное общее различие в положении крестьянства в странах Западной Европы и России. Корень различия - в ином историческом положении по отношению к национальной буржуазной революции. Для крестьянских масс Запада революция, освободившая их от гнета феодальной эксплуатации, уже позади. Они живут в сложившемся капиталистическом обществе, где законы буржуазной борьбы за существование царствуют безраздельно. Для русского крестьянства, хотя и освободившегося от наиболее суровых форм личной зависимости от помещиков, мир еще не стал до конца буржуазным, вследствие множества сохраненных реформами 60-х годов крепостнических пережитков, включая и такой «пережиток», как самодержавие. В Европе взаимоотношения мелких крестьянских земледельцев с «господином Гехтом» определяются «правилами», «контрактом». Это мир развитых капиталистических отношений. Но русский «мальчик без штанов» предпочитает этому царству буржуазной «законности» произвол и хищничество «господина Колупаева» Почему предпочитает? Потому что в его представлении всякий «контракт» лишает свободы. Вложенные в уста «мальчика без штанов» слова: «Надоел он нам, го-спо-дин Ко-лу-па-ев!» и «с Колупаевым мы сочтемся... Это верно!» - исполнены ожиданием предстоящих социальных потрясений, революционных перемен.
Швейцария – центр русской революционной эмиграции, «страна превратных толкований».
Франция – «республика без республиканцев», «сытые буржуа» французские. За фасадом буржуазно-демократических свобод Салтыков увидел основной порок частнособственнического мира - его расколотость, то, что меньшинство живет за счет большинства, увидел господство социальной несправедливости.
Бельгия проездом – «От времени до времени я заглядывал в окно и сквозь окрестную тьму различал целые светящиеся города. То был промышленный уголок Бельгии с его неусыпающими фабриками и заводами. С народом, повинным вечной работе и изнемогающим под игом тьмы и проказы! Поди-ка подступись к этому народу! Ты думаешь о наслаждениях мысли, чувства и вкуса, о свободе, об искусстве, об литературе, а он свое твердит: жрать! Не разнообразно, но зато как определенно! Вот он говорит, что книги истребить надо - войди-ка с ним в единение во имя истребления книг!»